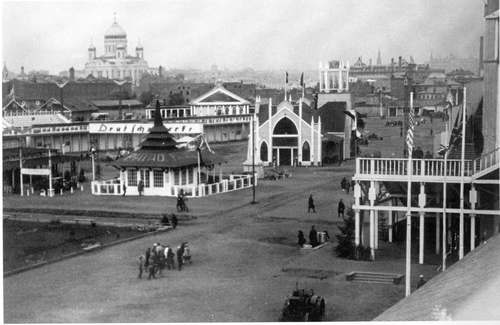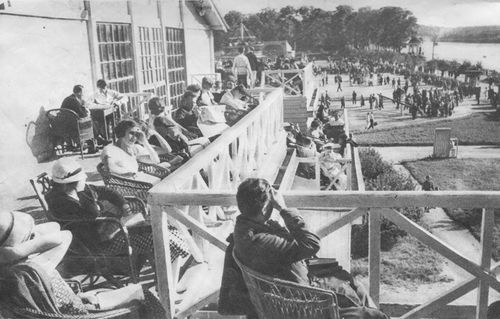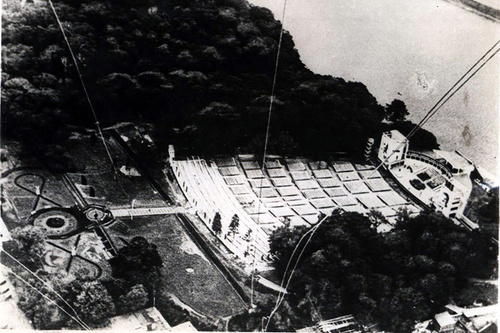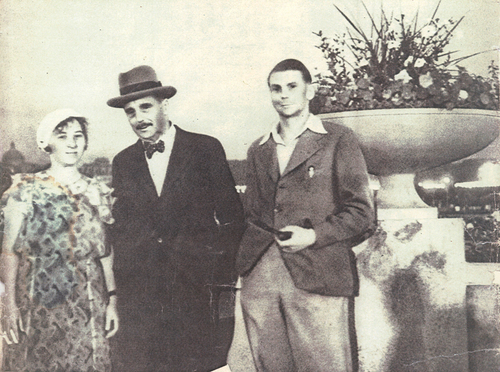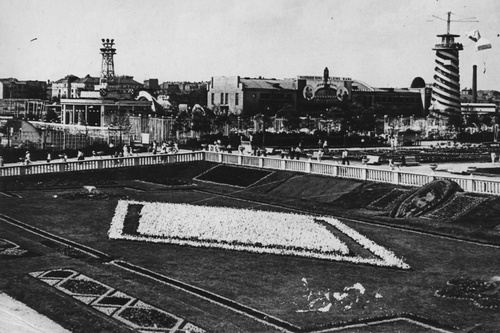О создании Парка Горького, его оздоровительных и агитационных функциях и знаменитых посетителях

Вторая беседа с Бетти Глан полностью посвящена Парку Горького, директором которого она стала в 1929 году. Глан рассказывает о решении правительства открыть на месте пустыря и свалки у Крымского моста Первую всероссийскую сельскохозяйственную и кустарно-промышленную выставку. Павильоны выставки стали основой для парка нового, советского типа, задачей которого было не традиционное развлечение публики, а пропаганда здорового образа жизни, красивого спортивного тела, культурная и научно-популярная агитация. Как многие крупные проекты тех лет, парк создавался в условиях колоссального дефицита материалов, культа экономии, но при большом энтузиазме. В планировке и оформлении парка участвовали выдающиеся архитекторы и художники — Александр Власов, Константин Мельников, Иван Жолтовский, Эль Лисицкий, братья Владимир и Георгий Стенберги и другие.
Парк стал визитной карточкой Москвы, куда обязательно приводили именитых гостей Советского Союза. Формирование положительного образа страны в глазах моральных и интеллектуальных авторитетов было важной частью программы легитимации советской власти на международной арене. Глан вспоминает высокие оценки и положительные отзывы наиболее знаменитых иностранных посетителей — Ромена Роллана, Герберта Уэллса и Бернарда Шоу, назвавшего Парк Горького «удивительным учреждением, в котором сочетается народный университет с массовым праздником».
Бетти Глан была директором парка до своего ареста в 1937 году. Под ее руководством парк достиг своего первого, довоенного расцвета.
Создание ЦПКиО. Довоенная территория парка. Посещение В.И. Лениным территории будущего парка. Первая всероссийская сельскохозяйственная выставка 1923 г. на территории будущего парка. Идея К.В. Уханова создать парк культуры; поддержка А.В. Луначарского. Открытие парка в 1928 г. Назначение Б.Н. Глан директором парка в 1929 г. Сотрудники, архитекторы и художники-оформители парка; создание пространственного оформления в 1930-е гг. братьями Стенбергами. ИЗО-фабрика при ЦПКиО. Культурно-просветительная деятельность парка. Инсценировка для делегатов XVI съезда в 1930 г., ее организаторы. Проведение Дней поэзии с 1934 г. Выставка достижений советской литературы к Первому съезду писателей; приезд М. Горького на выставку. 26 августа 1934 г. – встреча читателей с писателями; выступления А.Н. Толстого и Д. Бедного. Различные встречи, проводимые в парке. Планировка аллей. Система театров ЦПКиО. История создания Зеленого театра. Всесоюзные Олимпиады художественного творчества; Праздники музыки и поэзии. Остров танцев на Голицынском пруду. Помощь хору имени Пятницкого. Оздоровительная роль ЦПКиО. Городки однодневного отдыха. Школа танцев на льду. Проведение парадов Советской Армии, елок, карнавалов. Посещение ЦПКиО Р. Ролланом в 1935 г., письмо Роллана сотрудникам парка. Отзывы Г. Уэллса и Б. Шоу о парке. Отношение советских писателей к парку. О присвоении ЦПКиО имени М. Горького в 1933 г. Цветочное оформление парка, цветочные портреты В.И. Ленина, И.В. Сталина и М. Горького. Книжные выставки-базары. Архитектурные мастерские под руководством Эля Лисицкого. Воспоминания о В.Г. Захарове.
Отрывок из мемуаров Бетти Глан, опубликованных Парком Горького и Союзом театральных деятелей РСФСР
Фрагмент второй беседы первого директора парка Горького Бетти Николаевны Глан и Виктора Дмитриевича Дувакина
Кино-Правда №17 (1923) посвящена Первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке, на территории которой в конце 1920-х годов был создан Парк имени Горького.
Хроника состоит из следующих сюжетов:
– Крестьяне собирают урожай. Дети крестьян
– Всероссийский староста Калинин
– Дети рабочих. Телеграмма В.И. Ленину от детей шахтеров Щербиновских рудников с пожеланием скорейшего выздоровления
– Москва. Строительство павильонов для Первой Всероссийской выставки
– Москва. Железнодорожная станция Канатчиково. На выставку пребывают «экспонаты»
– Крестьянин в поле. Рабочий на заводе. Смычка города и деревни
– На Первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке
– Анимационный план выставки
О создании Парка Горького, его оздоровительных и агитационных функциях и знаменитых посетителях
Виктор Дмитриевич Дувакин: Расскажите, пожалуйста, о парке, о Московском парке культуры и отдыха имени Горького, который возник….
Бетти Николаевна Глан: О Центральном парке культуры и отдыха.
В.Д.: А, правильно.
Б.Г.: Да, он называется Центральный парк. Самые первые пару лет он назывался Московский. А когда уже появилось очень большое количество парков вслед за ним по всей стране, он сразу же приобрел звание и статус Центрального парка.
В.Д.: А я гулял когда-то там просто со своими сверстниками. Я старый москвич, и помню даже то, что было до рождения парка.
Б.Г.: Да, парк, собственно, состоял из нескольких частей. И вот об этих нескольких частях и нужно говорить. Его первая часть, на которой в 1923 году, как вы знаете, была построена первая Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, представляла собой свалку, пустырь. Когда я начинала свои беседы с Гербертом Уэллсом, с Роменом Ролланом, со многими другими именитыми гостями, я показывала им эту красивейшую, убранную территорию, где было много нарядных людей, которая выглядела чрезвычайно привлекательно. Когда я говорила, что на этом месте была свалка, то все они чрезвычайно удивлялись и соответственным образом к этому делу как-то так относились. На самом деле, там была самая настоящая свалка. Впоследствии, через несколько лет, Григорий Васильевич Александров, известный кинорежиссер, хотел сделать фильм, который начинался с того, что по этой свалке ходил слепой человек, его вела девочка, как поводырь, которая очень хорошо пела и танцевала. Потом эта девочка выросла и стала директором парка, превратилась, так сказать, в руководителя и так далее. Такая была фантазия у кинорежиссера, отталкиваясь от того, что вот там был такой пустырь.
В.Д.: То есть это вы были девочкой?
Б.Г.: Так предполагалось, такой художественный ход, понимаете. Что это началось с того, что просто такая вот способная девочка оказалась поводырем у этого слепого музыканта. Ну, это отвлечение. Так вот пустырь. Его территория была до Голицынского сада. Там, где две знаменитые Казаковские беседки. Голицынский сад — это уже стариннейший сад, который был построен в XVIII веке. Его деревья сейчас насчитывают двести с лишним лет — сохранившиеся деревья, там уже много подсадок. Там знаменитый Голицынский пруд, и на нем насыпной маленький остров, который потом нами был превращен в остров танцев.
В.Д.: Остров танцев?
Б.Г.: Танцев, да. Я потом дальше об этом расскажу. Это было одно из самых примечательных культурно-художественных учреждений в парке, которое имело потом большую историю, и до сих пор оно — одно из интереснейших достижений и завоеваний.
В.Д.: Это территория продолжалась до Калужской, то есть до Ленинского проспекта?
Б.Г.: Это перед Нескучным садом.
В.Д.: Перед. А налево это?..
Б.Г.: Налево выход на Титовский проезд, туда наверх на Калужскую улицу.
В.Д.: На Калужскую? Эта свалка продолжалась до самой Калужской улицы?
Б.Г.: Нет, она продолжалась до Голицынского сада.
В.Д.: Нет, до Голицынского сада в этот конец, а налево?
Б.Г.: Там были деревья уже. Вокруг пруда были большие деревья. Так что пустырь и свалка как таковая занимала место от Крымского вала — это громаднейший кусок, что-нибудь около сорока – сорока пяти гектар. Это очень большая часть. Вся центральная часть парка, включая детский городок, который был налево.
В.Д.: Правая сторона Калужской улицы, теперешнего Ленинского проспекта, была застроена?
Б.Г.: Она была в деревьях.
В.Д.: В деревьях?
Б.Г.: Да. Там наверху больница была, а перед ней был сад. И вот эта часть сада, такая…
В.Д.: А там была 1-я городская, 2-я городская и 3-я городская…
Б.Г.: И там была дорога вверх — Титовский проезд так называемый. Потом вся эта территория была освоена, в частности, напротив больницы был построен очень хороший военный городок с громадными тирами, там же было и дневное кино. Там же впоследствии была первая и единственная пиротехническая мастерская, которая создавала великолепные пиротехнические спектакли на протяжении всех первых лет, во всяком случае десяти–двенадцати лет существования парка.
Ну вот, Голицынский сад, Голицынский пруд, затем начиналась территория знаменитого Нескучного сада. Нескучный сад имеет свою историю, о нем большая литература. Он был создан в XVIII веке. Там насчитывалось более ста пятидесяти сортов разных деревьев, в том числе и очень редких пород. Одним из фаворитов Екатерины там был построен тот дворец1, который сейчас занят Академией наук. Он находится над нашим Зеленым театром, наверху Зеленого театра. Он уходит на Калужскую.
В.Д.: Это где был Этнографический музей одно время?
Б.Г.: Это дальше. Этнографический музей — это так называемая бывшая Ноева дача, это гораздо дальше. Там у нас были городки однодневного отдыха. А здесь было какое-то учреждение, которое уже давным-давно превращено в помещение Президиума Академии наук. Затем идет такая площадка и большой амфитеатр. В те времена, когда этот дворец был построен для приезда Екатерины II, там внизу, где находятся сейчас стены Зеленого театра, был пруд, на котором плавали черные и белые лебеди, и кругом были роскошные насаждения. Пять очень красивых и очень ценных деревьев осталось. Также как и в Нескучном саду, который был любимейшим местом отдыха москвичей вообще. Он еще примечателен тем, что на одной из аллей выступал Щепкин. Михаил Семенович Щепкин играл там в летнее время. Делали такую разборную сцену, и он там выступал.
В.Д.: Как же когда Екатерина приезжала, если свалка по дороге была?
Б.Г.: А ее с другой стороны подвозили. Ее подвозили со стороны Калужской, где был разбит прекрасный сад перед этим зданием. А та часть просто была отделена, мало ли было таких мест в Москве тогда? Особенно в этих краях. Больше того, там был еще, тоже совершенно в стиле архитектурном того времени, маленький гостевой домик для Екатерины, который потом нами был превращен в домик для писателей. Там работало много писателей в 30-х годах, в том числе особенно любил его Александр Александрович Фадеев. А немножко дальше была так называемая купальня Екатерины, которую превратили в чайный домик. Это был маленький классического стиля домик прямо над прудом, в глубине Нескучного сада.
В ту пору мы только следили за тем, чтобы поддерживать все это великолепное, так сказать, зеленое хозяйство, которое там было. И была построена симфоническая эстрада, на которой проводились систематически концерты и отдельные выступления. А чуть подальше был сделан городок однодневного отдыха, там же в Нескучном саду, за большим оврагом. Был построен один из очень хороших городков однодневного отдыха, и я дальше о них пару слов потом скажу. Такой же городок был сделан на Ноевой даче2, где был Музей восточных культур. Там была прекрасная территория. Там был большой музей такого этнографического типа, назывался «Музей восточных культур». Это большое, хорошее очень здание классического стиля. Оно находилось на бывшей так называемой Ноевой даче. Там была большая территория, очень красивая, и там мы сделали городок однодневного отдыха на две тысячи человек, которые приходили рано утром, проводили там весь день и уезжали в тот же вечер. Затем был перерыв в окружной дороге, и шли Воробьевы горы, в которые тоже…

В.Д.: А окружная дорога была проведена значительно позже, чем приезжала Екатерина?
Б.Г.: Да, да. Я теперь говорю о том, из чего состояла территория. Мы уже про Екатерину поговорили.
В.Д.: А окружная дорога прошла, наверно, году в 90-м?
Б.Г.: Ну, этого я не знаю. Честно говоря, меня это мало волновало. Эта территория нам не принадлежала. Это была чисто городская территория. Там получался перерыв, и потом начиналась территория Воробьевых гор, которая относилась к нам. На территории Воробьевых гор были наши книжные дворы, были наши однодневные дома отдыха, и впоследствии именно там (тоже наше новшество) был построен первый и затем второй трамплин (первый в Советском Союзе) для прыжков на лыжах. Именно там, на территории Воробьевых гор. Так что тогда наша территория была очень велика. Она начиналась от Крымского моста и простиралась…
В.Д.: До Воробьевых гор.
Б.Г.: Включая Воробьевы горы, вплоть до того места, где, знаете, большой плац внизу, на котором когда-то Подвойский Николай Ильич ставил большие массовые спектакли. Там были праздники, такое театрализованное представление «Октябрь», там была «Земля дыбом» поставлена в конце 20-х годов Мейерхольдом. Так что это очень примечательная территория.
В.Д.: Это внизу, где уже поляна, которая была перед рестораном. Ресторан был большой.
Б.Г.: Громадная поляна, да, ресторан Крынкина наверху.
В.Д.: Крынкина, да.
Б.Г.: Да. Потом там были сделаны, во-первых, колоссальные ледяные горы, которые с самой верхней точки Воробьевых гор шли через всю гору, через плато, через Москву-реку на противоположную сторону. Николай Ильич Подвойский занимался тогда этим ОСМКС — Обществом строителей Международного красного стадиона. Такое было общество, которое функционировало где-то до конца 20-х годов, и по наследству вроде бы нам Николай Ильич Подвойский передал свое, не очень большое хозяйство, а главным образом много интересных идей и много интересных задумок. Вот как обстояло дело с исходными территориями, которые отнесли к парку в 1928 году. Но теперь я хочу еще сказать пару слов об одном чрезвычайно примечательном событии.
В.Д.: А теперь не всё парк — парк ниже…
Б.Г.: После войны вся территория не была вновь освоена, и в генеральном плане теперешнего парка стоит задача освоить и включить Воробьевы горы. Несмотря на то, что там два трамплина, которые, в свое время были построены, и ряд сооружений…
В.Д.: Эти трамплины? Я думал, что вы имели в виду…
Б.Г.: Нет, эти трамплины лыжные. Мы построили в 34-м один, и в 37-м году второй.
В.Д.: Значит, тогда Воробьевы горы целиком почти?..
Б.Г.: Целиком были в нашем ведении. Целиком. Там были лыжные станции, там был один дом отдыха военных, который по дружескому соглашению мы им предоставили возможность сделать. В основном все лыжные станции и вся такая зимняя и летняя физкультурная работа велась нашим физкультурным отделом и нашими подразделениями.
Я начала говорить о том, что еще одно есть очень примечательное дело, связанное с предысторией, в какой-то мере, парка. Территорию пустыря, о котором мы с вами беседовали, в 1922 году посетил Владимир Ильич Ленин. Когда возник вопрос о создании сельскохозяйственной выставки, то было несколько предложений архитекторов, какое место взять для строительства будущей выставки. И в частности, мнение большинства склонялось к тому, чтобы взять именно эту открытую часть, которую можно было довольно легко застроить павильонами. Правда, у них были сложности, потому что довольно близко была вода. В этом углу большое строительство было вести очень сложно, поскольку рядом река. Но в этом же были и преимущества, потому что рядом река, рядом Нескучный сад, Голицынский сад и так далее. И подъезды были более или менее подходящие. И вот у нас в парке сейчас висит доска «Эту территорию посетил в 1922 году Владимир Ильич Ленин».
В.Д.: Еще когда строительство парка не начиналось?
Б.Г.: Да о парке никто и не думал! А когда шла речь только о строительстве первой Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
В.Д.: Ее я прекрасно помню.
Б.Г.: Да. И вот когда была утверждена им эта территория, то сразу приступили к строительству. И в 23-м году открыли эту выставку, которая была, как вы помните, по две стороны Крымского вала.
В.Д.: Иностранный отдел налево…
Б.Г.: Иностранный отдел был, если идти по Крымскому, налево, а основная выставка была направо.
В.Д.: В Иностранном отделе на тракторе катали.
Б.Г.: Да. На очень короткое время вся территория этого пустыря и свалки в неимоверно короткие сроки была превращена в красивейшую территорию с замечательными павильонами, которые уже к 23-му году, к весне, к лету, к началу выставки, поражали своей красотой и архитектурой. Замечательными деревянными скульптурами Конёнкова, которые так и остались потом у нас на территории и были одной из достопримечательностей. Такие прекрасные деревянные скульптуры, на зданиях сделанные.
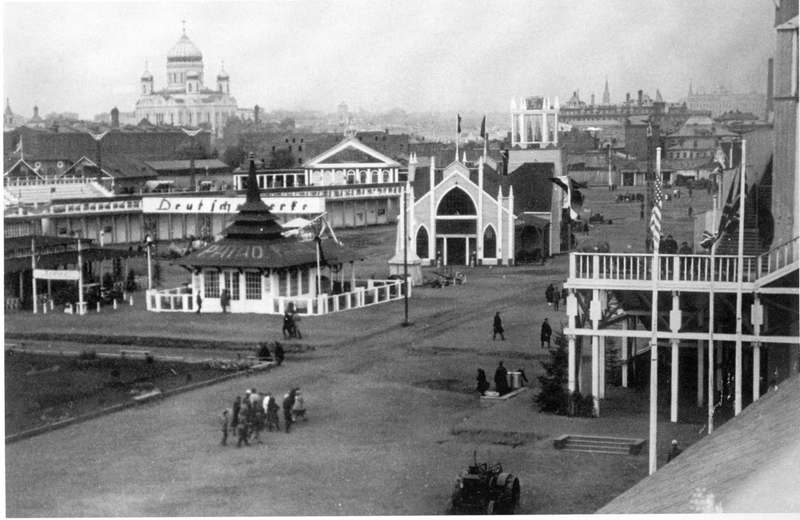
Видимо, самый факт того, что была такая территория с десятками павильонов, с несколькими театрами, более или менее мощёными аллеями, улицами, с большими зелеными, хоть и молодыми весьма посадками, навлек на мысль такого талантливого, интересного и очень любящего и культуру, и искусство, и стремившегося к тому, чтобы сделать его достоянием широчайших масс, человека как Константин Васильевич Уханов. Он был тогда председателем Московского горисполкома, Моссовета. Уханов побывал в Германии, посмотрел там и в Австрии луна-парк Пратер, приехал и сказал: «А вот мы должны сделать парк совсем другого характера и типа, сделать его для миллионов наших трудящихся». Эту же идею горячо поддержал Анатолий Васильевич Луначарский. И если говорить всерьез, то, конечно, решающее слово принадлежало, по предложению Московского совета, Московскому комитету партии, который не только поддержал, но и развил все эти идеи и положения о превращении парка в образцовое учреждение культурного порядка, задачами которого является воспитание этическое и эстетическое и создание наилучших условий для культурного досуга и отдыха трудящихся.
В.Д.: Ведь Уханов возглавлял Московский комитет партии?
Б.Г.: Нет, он возглавлял Московский совет!
В.Д.: А Угланов?
Б.Г.: А Угланов был секретарь Московского Комитета партии. Там не лично Угланов играл роль, там и другие были, которые горячо это дело поддержали. Мы не подразделяем, не называем имен, мы говорим просто, что большую роль сыграл Московский комитет партии в решении всего вопроса.
Идея возникла, как я говорила, у Уханова, парк открылся в 28-м. Он, конечно, был на его открытии и дальше уделял ему очень много внимания. Но уже с 31-го года председателем Моссовета был Булганин Николай Александрович, бывший директор электрозавода. Всю историю Моссовета мы сейчас не будем вспоминать, мне важны те, которые имели отношение к парку. Так к парку имел отношение только Уханов, который был одним из его, действительно, инициаторов, основателей или организаторов. А вот наибольшее отношение, в смысле содержания парка, в смысле его направленности, определения всего круга его задач, имел Анатолий Васильевич Луначарский. Он входил в комиссию по созданию парка в качестве заместителя председателя, в общем, на равных началах с Ухановым. Ему принадлежали, конечно, основные программные установки для строительства, для создания этого парка.
Вы помните, мы с вами говорили о том, что с Анатолием Васильевичем знакомство мое восходило к гораздо более раннему периоду, поэтому, когда начали строить парк, Анатолий Васильевич велел меня разыскать. До этого я была еще знакома и с Константином Васильевичем Ухановым, потому что, когда он был директором и художественным руководителем Дворца культуры ОСОАВИАХИМа, теперь он называется имени Чкалова авиазавода №1, мы приходили к нему с большой делегацией в 27-м году по поводу превращения конюшен бывшего миллионера Манташева в дворец для спорта. В дворец спорта для нашего завода, который имел знаменитые тяжелоатлетические секции и целый ряд других физкультурных групп, которым необходимы были условия для занятий. Теперешний дворец «Крылья Советов» на Ленинградском шоссе был построен вот по просьбе завода и при большущем участии Московского совета и, в частности, Константина Васильевича Уханова, который дал указание во что бы то ни стало выполнить эту просьбу рабочих. Это один из самых первых заводских дворцов для спортивных занятий, который был тогда создан в Москве. Отсюда произошло и наше знакомство с Ухановым.
Когда Анатолий Васильевич Луначарский поставил вопрос перед Константином Васильевичем о том, чтобы меня принять на это дело, то тот горячо поддержал эту идею, поскольку он уже тоже знал меня по работе в дворце культуры, которая была, в общем и целом, близка — в гораздо меньших масштабах — всему тому, что предполагалось в парке. Вот поэтому вначале меня не отпускали долго из дворца (несколько месяцев), а потом по инициативе Московского комитета комсомола и, главное, по предложению Московского комитета партии я была переведена в 29-м году на работу в Центральный парк культуры и отдыха.
В.Д.: В 29-м году?
Б.Г.: Да, я была с самого начала 29-го.
В.Д.: А кто же был до вас? Кто открывал парк?
Б.Г.: Открывала комиссия! Был временный, общественный, исполняющий обязанности заведующего, как тогда называли. Меня утвердили первую как директора и художественного руководителя, а он назывался «исполняющий обязанности заведующего». Был такой Григорий Иванович Лебедев. Он был заведующий Домом крестьянина, и по совместительству его в общественном порядке назначили на период подготовки к открытию.
В.Д.: Григорий Иванович Лебедев?
Б.Г.: Да, который работал еще когда-то на сельскохозяйственной выставке в качестве заведующего Домом крестьянина. А затем он уже с самых первых месяцев 29-го года оттуда ушел по ряду причин и вернулся на свою работу. Вот тогда меня перевели в парк, назначили сначала (на какое-то время недолгое) исполняющей обязанности худрука и директора, а затем уже я была утверждена официально, распоряжением Московского совета на это дело. Но дело не в этом, а дело в том, что там помимо руководства работал интереснейший коллектив людей, что нам удалось подобрать замечательную молодежь. Важно и ценно, что начиная, кстати, и с меня, которой было тогда двадцать четыре года, и моих заместителей, и основных руководителей всех отделов (а у нас вскоре уже было двадцать восемь отделов, которые занимались различными видами работы) — это все была молодежь. Молодежь примерно от двадцати до двадцати пяти лет, ну, если не считать только начальника планового отдела, бухгалтерии, коммерческого отдела, то есть каких-то административно-хозяйственных дел, которыми занимались опытные специалисты. А эту работу вели молодые, большинство из которых кончило Академию коммунистического воспитания. Вот оттуда мы и набирали свои основные кадры. Такая была Академия коммунистического воспитания имени Крупской.
В.Д.: Я тоже слышал название…
Б.Г.: Вот оттуда были наши начальники. Но наш начальник физкультурного отдела (впоследствии очень крупный режиссер в этой области, теперь заслуженный деятель искусств), Михаил Давыдович Сегал, был в Институте физкультуры — по специальности. По театральной — работали опытные довольно деятели театра, бывшие директора театров и так далее.
В.Д.: А литературный отдел у вас был?
Б.Г.: Вы знаете, литературного, как такового, не было. У нас была режиссерская группа, которая имела около себя сценарную группу. И мы широко привлекали самых разнообразных…
У нас, если говорить о строении руководства, был главный архитектор парка. Это был замечательнейший человек, которого мы взяли буквально со студенческой скамьи, он только кончил тогда Архитектурный институт. Александр Васильевич Власов, который впоследствии прославился как главный архитектор Москвы, главный архитектор Киева, а затем уже он был президентом Академии архитектуры. Это был один из самых талантливых архитекторов того времени, ученик Жолтовского.
Могу с гордостью сказать, что и Иван Владиславович Жолтовский принимал деятельное участие в создании парка, в его строительстве последующем. С ним у меня бывали неоднократные беседы у него на квартире, в переулочке между Герцена и Горького, который чрезвычайно много интересного и полезного нам рассказал и, так сказать, завещал, как следует создать такое вот культурное учреждение для огромного количества людей с точки зрения красоты архитектуры и ее соответствия задачам, которые были поставлены. Еще там работал Каро Семёнович Алабян, потом тоже знаменитейший архитектор, и так далее. Очень большую роль мы отводили главным художникам.
В.Д.: Вы называйте, это интересно.
Б.Г.: Да. Главными художниками у нас были интереснейшие люди. Первым главным художником у нас был такой венгр Бела Уитц, один из профессоров ВХУТЕМАСа. Затем, уже в 30-м году, я привлекла на работу знаменитых братьев Стенбергов, они были несколько лет главными художниками. Несмотря на их молодость тогда, они были просто примечательными в смысле современности, нового стиля, какой-то необычайной яркости и вместе с тем полного отсутствия какой бы то ни было лубочности, которая была опасна в условиях. То есть их можно называть одними из зачинателей такого прекрасного пространственного оформления, которое имело очень большое значение на нашей территории, принимая во внимание, что ко всем большим праздникам, которые проводились у нас в парке, мы всегда соответственно украшали территорию и оформляли ее, по общему мнению, на очень высоком художественном уровне.
После Стенбергов, очень недолго, примерно год – полтора, главным художником был Михаил Филиппович Ладур, впоследствии народный художник Российской Федерации и создатель журнала «Декоративное искусство СССР». И талантливый, и очень умный, чрезвычайно прогрессивный, с огромной инициативой и такой изобретательностью в этом плане. Он и потом, уже работая в качестве главного редактора журнала и одного из ведущих художников ВДНХ, всегда оставался верен и парку, и его работе, и его идеям и так далее. А с 35-го года главным художником на протяжении нескольких лет был известнейший, с моей точки зрения, один из наиболее рафинированных и талантливых художников с прекрасным видением, Петр Владимирович Вильямс, который был театральным художником. Его мы знаем как постановщика «Пиквикского клуба» в Художественном театре и многих-многих других вещей. Он, например, был у нас (привлек для этого Крынкина) главным художником карнавалов наших знаменитых 35-го и 36-го годов и многих других интереснейших событий, которые происходили у нас в парке.
Я хочу сказать, что этому делу мы придавали очень большое значение, поэтому нам удалось добиться, что уже в самом начале 30-х годов при парке была создана большая мастерская. Даже не мастерская, а фабрика. Она так и называлась «ИЗО-фабрика», на которой работало около двухсот человек. Ее возглавлял и создал бывший заведующий постановочной часть Большого театра Василий Дмитриевич Федоров. Там было несколько цехов: цеха оформительские, цеха специальные, которые делали маски, цеха, которые делали флаги, и так далее. Благодаря этой фабрике, мы имели возможность при любом указании от наших руководящих организаций буквально в несколько дней все территории оформлять соответствующим образом и делать костюмы, которые были нужны. А для больших наших карнавалов праздничных, соответствующие маски и так далее, и так далее.
Ну, мы несколько отвлеклись в эту сторону, а мне бы хотелось сейчас сказать о тех основных целях, для которых был построен парк, о его значении и содержании. К этим вопросам, может быть, и вернемся потом. Тут надо подчеркнуть, что парк был создан в 1928 году, в первом году первой пятилетки. И его со всем правом называли детищем первой пятилетки, наряду с громадными новостройками, которые тогда по плану первой пятилетки строились. Это был и Турксиб, и Днепрострой, и Тракторострой, и многие-многие другие.
В.Д.: В каком месяце началось?
Б.Г.: В августе. Открылся парк 12 августа 1928 года.
В.Д.: 12 августа уже открылся?
Б.Г.: Открылся. Его готовили примерно около года.
В.Д.: Готовили его еще не в первую пятилетку…
Б.Г.: Но он — детище первой пятилетки. Первая пятилетка началась в 28-м году.
В.Д.: 1 октября. 1 октября.
Б.Г.: Считается 28-й год, не считается по месяцам. 28-й год — год первой пятилетки.
В.Д.: Считалось с октября до октября, а потом был особый квартал. И первая половина 28-го года — это еще не пятилетка.
Б.Г.: Да, но, во всяком случае, он уже был, открылся в августе 28-го года, всегда официально признавался и назывался культурным гигантом и первым детищем первой пятилетки, потому что целый ряд других строительств, некоторые из которых начались на несколько месяцев раньше, некоторые на несколько месяцев позже, тем не менее, числились по первой пятилетке. Тут уж какой-то месяц абсолютно не решает ничего.
Парк был создан, несмотря на очень большие трудности со строительством. Ему уделялось большое внимание, на него тратились средства, на него тратились строительные материалы, очень дефицитные. Правда, я сразу должна подчеркнуть, что громадную роль в его создании сыграли сами трудящиеся Москвы. Я не могу даже пересчитать того количества субботников и воскресников, которые были проведены на территории парка и в период его подготовки к открытию в первом году, и во все последующие годы. Перед его открытием, на протяжении месяца – полутора, сотни, тысячи молодых ребят, в частности, студентов всех окружающих высших учебных заведений, а там их целый ряд на бывшей Калужской улице находилось (Институт стали и другие), и ближайших заводов: «Красный пролетарий», станкостроительный и так далее, и так далее. Так что там было очень много вложено личного труда москвичей, и об этом очень много говорилось и писалось.
Конечно, нельзя было бы ничего освоить, если бы не было большой государственной и партийной помощи. Вероятно, это делалось еще и потому, что как-то необычайно соответствовало потребности людей в ту пору, в первом году пятилетки, когда после периода восстановления начался уже новый период социалистического строительства. Соответствовало тем настроениям и тому колоссальному стремлению к культуре, к отдыху, к общению в условиях отдыха с точки зрения самих людей. И, наконец, просто проблемам политического, и идейного, и художественного воспитания, и проблемам оздоровления, которые имели очень большое значение, особенно для нашей страны. В частности, развитию физкультуры и спорта, различных форм оздоровительного отдыха и так далее.
Деятельность парка настолько многосторонняя, я показала вам эту книжечку… так только там на десятках страниц (в 30-м году она была издана, типа справочника) перечисляются объекты! Объекты парка, на которых велась работа. Это названия различных театров, различных площадок, библиотек, театров, отдельных киосков, различных баз отдыха и физкультуры, Нескучный сад, водная база, школа плаванья, купания, школа народной гребли.
В.Д.: Простите, а как именуются и определяются задачи здания, которое называлось «Культбаза»?
Б.Г.: Чтобы мне не разбивать, я к этому делу подойду. Также как всякая другая база, она имела совершенно определенный круг задач. Культбаза была, во-первых, огромной библиотекой-читальней, которая имела филиалы в разных местах парка. Во-вторых, это был выставочный центр, в котором систематически менялись выставки. В-третьих, это был клуб интересных встреч, типа лекционного помещения с кинозалом, в котором проводились различного рода встречи. И была прекрасная веранда в этой старой Культбазе, на которой тоже можно было читать и смотреть на все происходящие, иногда чрезвычайно интересные празднества, которые проводились на Москве-реке, поскольку Культбаза, как вы помните, стояла близко…
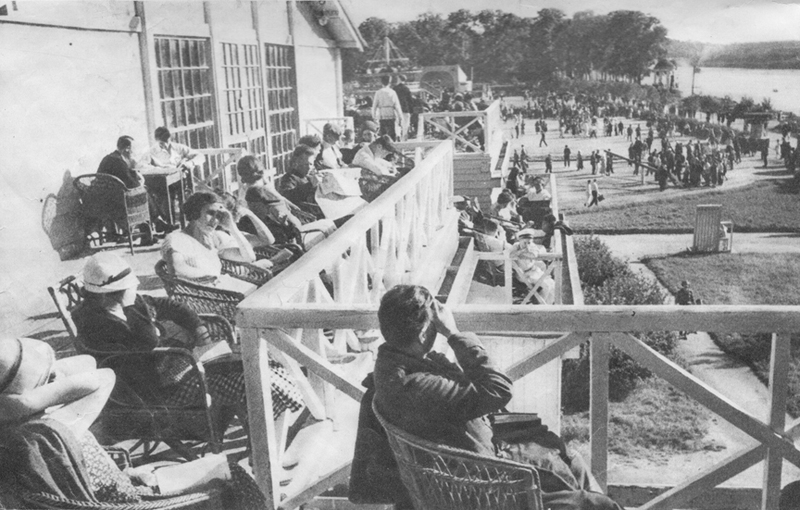
Там же находились всякого рода творческие мастерские, такого типа как была ваша Бригада Маяковского и другие. Это был центр культурно-просветительной работы, в отличие, скажем, от физкультурной, от шашечной, от театров, которые имели совершенно иные задачи, от танцевальных площадок, от Острова танцев и многих других.
Я вот еще хочу сказать: деятельность парка была настолько велика и многогранна, что о нем можно писать, и уже пишут многие книги. О нем можно бесконечное количество писать статей, создавать фильмов и так далее. Я лично полагаю, что до сих пор о нем написано гораздо меньше, чем он того стоит, ибо он явился прародителем не только существующих сейчас в стране двух тысяч парков, но он явился и тем эталоном, по которому строятся парки культуры и отдыха во всех социалистических странах. У нас заимствовали неоднократно к нам приезжавшие представители подобного типа учреждений (парков отдыха и развлечений) из капиталистических стран.
Очень важно отметить, что парк жил сегодняшним днем страны. Он как бы держал, было такое специальное выражение, «держал руку на трудовом пульсе страны». Все важнейшие какие-то события, все решения важнейшие, которые проходили по линии партии или государства, в той или другой форме находили отражение в парке. Были ли это наглядные агитации, какие-то фотоокна типа Окон РОСТА, которые тотчас же, буквально в этот день, на следующий день, отражали это на территории. Были ли это специальные системы консультаций и бесед, агитбригады, которые, чуть ли не в те же дни, сейчас же, рассказывали в различных художественных формах о самом важном, что произошло. Были ли это специальные беседы и рассказы по текущей политике, по международной политике, или показ кино, и так далее, и так далее. Таких форм было множество. Недаром парк называли тогда парком-агитатором.
В маленькой книжке, которую я тогда написала о парке, она была выпущена московским партийным издательством в 1934 году, как раз и есть такая глава, которая называется «Парк-агитатор».
Это была его прямая функция как помощника партии в проведении огромному количеству людей самых важнейших задач и идей, выдвинутых нашими партийными и государственными организациями.
Что важно еще: многие интересные события (важнейшие, интересные события, которые происходили тогда в стране), не считая знаменательных дат, которые там тоже всегда находили свое отражение, обязательно отмечали в парке. Сейчас часто говорят: «Не было другого места». Конечно, это имело значения. Такой аудитории, где можно было бы встречаться просто с тысячами людей, как сейчас, скажем, в Кремлевском дворце съездов или Концертном зале «Россия», конечно, не было. И парк, в этом смысле, был первым и в ту пору единственным местом, в котором проводились такого рода самые важные торжественные заседания, торжественные встречи и так далее. Я приведу такой пример: лозунг «пять в четыре», который вы помните, то есть пятилетку исполнить в четыре года, и который являлся ведущим во всей деятельности наших партийных, государственных и общественных организаций, был и для нас самым боевым, очень часто повторялся во внешнем оформлении, и имел колоссальное значение для нашей внутренней работы.
Для того чтобы стимулировать предприятия к выполнению или перевыполнению плана или обязательства, был создан у нас такой Зал заводов и колхозов. Это было очень большое помещение в самом начале парка, примерно на восемьсот человек, которое имело свою славную историю (ее отдельно можно писать). Там систематически встречались представители различных предприятий, которые обменивались опытом, трудовыми рапортами. Туда приезжали из Подмосковья представители различных колхозов и встречались с предприятиями. Этот Зал заводов имел очень добрую славу как место, где узнавалось о том, как ведется и выполняется пятилетка, где стимулировались всякого рода достижения в этом направлении. Сюда же можно отнести и специальные дни заводов. Целый завод приходил на территорию парка. Помимо того, что в Зеленом театре (раньше на площади «Смычка») проводили какие-то трудовые рапорты, встречи соревнующихся предприятий и так далее, еще организовывался громадный день самого разнообразного отдыха для рабочих заводов.
Любопытно отметить, что когда электрозавод выполнил пятилетку в два с половиной года, как вы помните, то был организован не только громадный праздник, но и было решено сделать на территории парка несколько бюстов самых лучших, выдающихся рабочих, передовиков, которые сыграли решающую роль своим примером в перевыполнении плана. Эти бюсты были поставлены на аллее, которая вела к Зеленому театру. В ту пору в «Крокодиле» появилась очень смешная заметка, как одна девушка пишет одному из героев, бюст которого поставлен: «Назначаю тебе свидание у твоего памятника на аллее у Нескучного сада». Так что это было и предметом некоторых улыбок, потому что это первый был такой пример.

Что еще очень интересно: что в начале 30-х годов с помощью Наркомата тяжелой промышленности и при непосредственной поддержке Серго Орджоникидзе был построен первый такого типа городок науки и техники. Это была очень большая территория с громадным количеством комнат, которые помогали создавать научные институты, геологический музей, биологический музей и прочие, и прочие. Там было очень много лабораторий: занимательной физики, занимательной химии, различного рода выставки, где не было отбоя от молодежи, старших школьников и всех школьников. Было это сделано чрезвычайно интересно и потому, что там выступали с докладами и лекциями необычайно интересные люди. Начну хотя бы с Отто Юльевича Шмидта, который несколько раз, перед всеми своими плаваниями, приходил к нам, а последний раз он был у нас уже после возвращения, после Челюскинской эпопеи, о которой я вам особо скажу. Там выступал капитан ледокола «Литке», там выступал Ушаков Георгий Алексеевич, известный полярник. Вообще, вот этой эпопеи завоевания полюса и полярного пути ледового у нас уделялось тогда очень много времени, как одной из важнейших боевых задач. Также как и достижениям в области авиации, которые тогда были так же модны, также интересны, как, скажем, теперь проблемы космонавтики.
Что еще тут важно отметить в смысле этих больших событийных дел. На той территории, на которой сейчас находится Зеленый театр, до 33-го года была такая площадь «Смычка», так она называлась. Такое название осталось еще со времен филипповских. На этом громадном амфитеатре было построено только пять тысяч мест и не очень большая эстрада, сравнительно. Но там собиралось до двадцати тысяч человек, часть людей просто сидела, стояла и так далее. Там в 30-м году, во время XVI съезда партии (по особому нашему замыслу и заданию) мы готовили одну такую большую массовую инсценировку. Теперь бы мы назвали это просто грандиозным спектаклем-представлением, к которому были привлечены такие выдающиеся режиссеры как Сергей Разумов, имя которого вы, наверное, знаете. Художником был, впоследствии выдающийся народный художник СССР и член президиума Академии художеств, Яков Дорофеевич Ромас.
В.Д.: Ромас.
Б.Г.: Вот тут висят две его картины, так сказать, лично подаренные….
В.Д.: Он оформлял…
Б.Г.: ВДНХ, да. Который был потом главным художником…
В.Д.: И наш музей оформлял.
Б.Г.: Да, ВДНХ. Это был очень талантливый художник… Он, кстати, был женат на дочери Инессы Арманд, на Варе Арманд. Его первой женой была Варя Арманд.
В.Д.: А разве у Инессы Арманд было несколько дочерей?
Б.Г.: Две. Старшая дочь Инна.
В.Д.: Которая работала со мной.
Б.Г.: Да. И младшая дочь Варя, которая с Надеждой Константиновной ездила во ВХУТЕМАС, где произошла эта знаменитая беседа о Маяковском, о Пушкине, о стихах и так далее. Это все есть, многократно описано и так далее. Так вот, Яков Дорофеевич Ромас был тогда оформителем (все это уже, кстати, и в книгах описано) этой интереснейшей инсценировки. Она была сделана для делегатов съезда. Любопытно, что все делегаты XVI съезда, подавляющее большинство, приехали в парк во главе с секретарями Центрального комитета партии. И эта инсценировка вошла в анналы потом, о ней первый писал Цехновицер. Такую фамилию вы должны знать.
В.Д.: Знаю, знаю.
Б.Г.: Это историограф, так сказать, историк первых празднеств, революционных празднеств Советской власти, первых лет Октябрьской революции, и он…
В.Д.: В его редакции вышла книжка о Маяковском.
Б.Г.: Да?
В.Д.: Да.
Б.Г.: Да, но я знаю его как автора двух или трех книг, одна как раз «Первые празднества революции», Орест Цехновицер. Вот в его книге есть чрезвычайно высокая оценка этой громадной постановки, для сценария которой был приглашен нами Владимир Владимирович Маяковский. Я вам говорила, что я к нему ездила на квартиру и с ним беседовала. Он дал согласие ее делать и привлек к этому Асеева, но, к сожалению великому, через короткое время его не стало.
В.Д.: Это за несколько дней до смерти было?
Б.Г.: Я была у него за несколько дней буквально, я была у него дней за десять до смерти, где-то в начале апреля или в конце марта 30-го года. Он меня попросил позвонить через неделю, очень заинтересовавшись и дав согласие писать эту инсценировку. Понимаете? Этот сценарий. А когда я ему позвонила, то он мне сказал, что он очень плохо себя чувствует, болен гриппом и просит позвонить дней через пять. Сказал, что он уже привлек Асеева, и в случае чего, если он не поправится, чтобы я обратилась к Асееву. К сожалению, уже через три дня его не стало. И я обратилась к Асееву Николаю Николаевичу. Николай Николаевич создал этот сценарий. Он всегда повторял, что основные мысли он согласовал и обговорил с Маяковским. Материал мне дали, это было основано на отчете Центрального комитета партии съезду. Все основные положения этого отчета были взяты в эту инсценировку. Причем, там были и весьма сатирические, так сказать, моменты, которые прозвучали в докладе и отмечали какие-то достижения, а главным образом грандиозные планы. И это дело происходило на территории довольно большой сценической площадки, тогда это территория «Смычки», теперешнего Зеленого театра, и Москвы-реки, потому что на Москве-реке проходил целый флот большой, и на противоположной стороне. А закончилось это грандиозным пиротехническим спектаклем, в котором изображался Турксиб, Тракторострой, и, наконец, грандиозная плотина Днепростроя.
В.Д.: А вы Безыменского не привлекали к этому? Я вспоминаю его в связи с XVI съездом. Вообще, в то время еще не было принято писателей делегатами съезда делать. Как сейчас Фадеев…. Тогда немного было. По-моему, Безыменский чуть ли не единственный, во всяком случае, один из первых был делегатом XVI съезда партии. Он выступал на съезде с худо ли, хорошо ли написанным поэтическим отчетом о состоянии литературы.
Б.Г.: Это было не на этом.
В.Д.: На XVI съезде.
Б.Г.: На XVI-м?
В.Д.: Сам я помню, что он выступал и говорил, что считает нужным «символизировать, что в поэтическом хозяйстве — прорыв!»
Б.Г.: Но нашей задачей были не литература на данном этапе, а нашей задачей был вопрос создания первой пятилетки из строек первой пятилетки. То, что было центральным на всем XVI съезде. Это был первый период социалистического строительства. Именно этому, включая все эти сатирические моменты и, понимаете, «кабы чего не вышло», которое звучало тогда в докладе Сталина, и прочее, и прочее. И потом же у нас были авторами Маяковский и Асеев, уже привлекать, понимаете, третьего…
В.Д.: Нет, но я, собственно говоря…
Б.Г.: Да. Нет, Безыменский был нашим большим другом, он у нас очень много выступал, я потом пару слов скажу о днях поэзии, но к этому вечеру…
В.Д.: Дни поэзии возникли позже. Дни поэзии уже были после войны.
Б.Г.: Господь с вами, господь с вами! Какой же после войны?! Когда в 34-м году в порядке подготовки и проведения Первого съезда писателей парк сыграл огромную роль во всем этом деле.
В.Д.: Я охотно этому верю.
Б.Г.: А вы говорите после войны.
В.Д.: Но такого слова «День поэзии» не было.
Б.Г.: Неверно, неверно. У нас на протяжении всех лет с 34-го года, и в 35-м, и в 36-м, и в 37-м, и в 38-м ежегодно проводились большие Дни поэзии.
В.Д.: В масштабе парка?
Б.Г.: В масштабе парка! Я не говорю относительно издания книг, которые появились гораздо позже. Я говорю сейчас вам о парке, а вы говорите о тех Днях поэзии, которые появились действительно позднее, когда по магазинам стали продавать книжки и так далее. Это совсем другое… А тут я говорю о съезде писателей, который проводился в 34-м году.
В.Д.: В августе 34-го года.
Б.Г.: Да, и когда мы, по личному заданию Алексея Максимовича Горького, который приехал к нам, подготовили вместе с Союзом писателей… мы проводили огромную работу к этому съезду.
В.Д.: Горький приезжал к вам?
Б.Г.: Да, именно в тот раз мы с ним и познакомились. Именно в августе 34-го года. Он бывал раньше в парке: он был и в 33-м году, и в 31-м году. Он выступал у нас на «Смычке» несколько раз. Но тогда мы мельком были знакомы, поскольку он приезжал, выступал и уезжал.

Б.Г.: В 34-м году была сделана огромная выставка «Достижения советской литературы к Первому съезду писателей», громадная. Это если войти на территорию парка, направо был очень большой павильон, и весь этот павильон был занят этой выставкой. И Алексей Максимович с громадным интересом…
В.Д.: Пятнадцать лет было советской литературе.
Б.Г.: Да, да, да, и главное, что это была подготовка к Первому съезду. Я сейчас вам покажу фотографию у этой выставки. Вот эта выставка. Вот здесь направо. Вот это грандиозный, колоссальнейший, прямо на аэростат похожий флаг. Вот Алексей Максимович, вот Стецкий Алексей Иванович, заведующий отделом культуры ЦК партии, вот Ляшкевич, ныне живой, тогда директор Литфонда, вот Бетти Николаевна Глан с цветами рядом, вот Абрам Эфрос, литературовед известный. Вот Крючков, секретарь Горького. Вот машина его. Это фотография, которая была впервые только года три назад опубликована.
В.Д.: Стернберг в центре?
Б.Г.: Какой Стернберг? Стецкий.
В.Д.: Стецкий, простите, оговорился.
Б.Г.: Стецкий Алексей Иванович, заведующий отделом культуры ЦК Партии.
В.Д.: Он направо от Горького стоит?
Б.Г.: Да-да-да. А это Ляшкевич, он тогда был директор Литфонда.
В.Д.: А вот с бородкой, это кто?
Б.Г.: Эфрос. Абрам Маркович Эфрос, это известнейший литературовед.
В.Д.: Очень интересная фотография.
Б.Г.: Это редчайшая фотография, она у меня есть увеличенная.
В.Д.: А вот этот в кепочке?
Б.Г.: Это секретарь Горького, Крючков.
В.Д.: Крючков так демократически одевался?
Б.Г.: Алексей Максимович очень остался доволен всей выставкой и немножко пожурил за то, что слишком много внимания уделили лично его произведениям, которые там по центру занимали очень большое место, и тут же спросил меня, что мы собираемся делать перед съездом. Я ему рассказала.
В.Д.: А вы там выглядываете с букетом сзади, да?
Б.Г.: Нет, я прямо рядом с Горьким, в белом платье с цветами.
В.Д.: А где вы?
В.Д.: Вот эта вот, да?
Б.Г.: Тут же вот я рассказала Алексею Максимовичу, по его просьбе, о том, что мы собираемся делать во время съезда. В частности, нами была задумана чрезвычайно интересная (она оказалась намного более интересной, чем даже мы задумали) встреча читателей и писателей в Зеленом театре. Тогда он уже был построен, он был выстроен в 33-м году. Встреча состоялась 26 августа 1934 года, на ней присутствовали все делегаты съезда. Не смог, к великому сожалению, по состоянию здоровья, приехать только Алексей Максимович сам. На следующий день к нему поехал Алексей Толстой и целая группа писателей именитых, которые…
В.Д.: Именитых писателей?
Б.Г.: Писателей, писателей, да… Это была знаменитая встреча читателей и писателей, которая довольно подробно описана в одной из моих книг, и является, собственно, основой всех последующих праздников поэзии и литературы.
В.Д.: И Бухарин там присутствовал?
Б.Г.: Нет, нет.
В.Д.: Он же доклад, по-моему, делал?
Б.Г.: Нет, делал и Бухарин, делал там и Радек, мало ли кто делает доклады. Нет, они не выступали. Открывал один из старейших писателей… Там выступало очень много интереснейших людей, в том числе прекрасно выступал Алексей Толстой, Демьян Бедный, выступал Гамзат Цадаса. В общем, можно долго об этом рассказывать, потому что каждое из этих явлений требует и имеет право на то, чтобы о нем говорить подробно. Это было настоящее большое событие в Москве. Затем была великолепная и совершенно необычная художественная часть. Там вот рассказывается о том, как все они были вовлечены и в танцы, танцы происходили на самой сцене… Был Альберти, Рафаэль Альберти, который сейчас, как вы знаете, в Испании занимается литературой, и его жена Мария Тереса Леон. О ней тогда говорили: «Боже мой, как же мы мечтали о том, чтобы когда-нибудь, кто-нибудь, похожий на нее, был у нас в стране». Был Михаил Кольцов и масса интереснейших людей. Я могу назвать еще десятки имен тех, кто участвовал непосредственно в беседе, которая происходила там. Праздник проходил по всей территории. Причем, очень любопытно было сделано еще то, что всех писателей и драматургов встречали актеры МХАТа, актеры Малого театра… Они стояли прямо такими своеобразными шпалерами по центральной аллее, и актеры каждого театра встречали своих драматургов: Корнейчука, Ромашова, целого ряда других советских драматургов, пьесы которых ставит данный театр. Это была довольно необычная встреча, а дальше их встречали и писатели, и молодые представители литературных объединений и так далее. Это одно из крупнейших литературных дел, литературный праздник, который положил начало последующим многочисленным дням поэзии.
Также в необычайно приподнятой обстановке проходила встреча первых героев Советского Союза и челюскинцев, покорителей Северного полюса, встреча Чкалова, Байдукова и Белякова после их первого перелета через полюс. Я могла бы назвать еще многие-многие такие крупнейшие события в масштабах страны, когда торжественные собрание, связанные с ними, проводилось на территории парка. Причем всегда при участии очень интересного состава руководящих и наших партийных органов, включающих и членов Политбюро ЦК, и секретарей Московского комитета партии, и широчайшую трудовую общественность, поскольку в Зеленом театре тогда могло помещаться уже более двадцати тысяч человек.
Сейчас я хочу перейти к вопросу о самом Зеленом театре, который являлся, бесспорно, по целому ряду причин главным, наряду с несколькими театрами, которые существовали в парке. Это были те павильоны, которые остались, как я уже вам говорила, от выставки. Там был драматический театр, в котором гастролировали крупнейшие театры страны.
В.Д.: Культбаза, по-моему, тоже осталась.
Б.Г.: Нет, нет, Культбаза была культбаза, она занималась только культурно-просветительной работой. В ней не было театрального элемента. Культбаза и рядом находящаяся Физкультбаза, в которой были солярий, очень много площадок и прочее — всё это были павильоны Сельскохозяйственной выставки. Их, к сожалению или к счастью, сейчас уже давно нет, потому что они уже пришли в достаточную ветхость. А вот с другой стороны находилась целая цепь театров. Самое начало, вот если войти в парк, самый вход в парк ведь тоже был примечательным. Это был колоссальный павильон, который мы приспособили как Зал приема.
В.Д.: Деревянный.
Б.Г.: Деревянный, деревянный. И в него входили люди, могли быть, скажем, приезжие, и они могли тут же освежиться и приобрести совершенно иной вид. Там работало всё: там можно было почистить одежду, там можно было попасть в парикмахерскую, там можно было сдать что-то, чтобы привести в порядок и почистить свои вещи. И вместе с тем, там всегда играл оркестр, там всегда были какие-то напитки. В общем, человек, пройдя через этот Зал приемов, уже был подготовлен к тому, что он входит в какое-то учреждение отдыха. К тому же у нас обычно, особенно во время каких-то праздников, людей встречали очень хорошие красивые наши девушки с цветами или с шарами, говорили: «Добро пожаловать», что настраивало всех и на соответствующий лад.
Во-первых, территория наша была очень хорошо оформлена с точки зрения садово-парковой. (Мы несколько отвлеклись, я потом расскажу о Зеленом театре…) Этим делом у нас занимались, как я говорила вам, чрезвычайно интересные архитекторы. Я назвала Александра Васильевича Власова, но до него мы проводили интереснейший конкурс на генеральный план парка. В этом конкурсе участвовали десятки крупнейших архитекторов. Председателем этого комитета формально был именно Иван Владиславович Жолтовский. Я говорю «в какой-то мере формально», ибо он детально все проекты не рассматривал, но вот основные направления были даны им. Очень важную роль играл такой Константин Мельников, необычайно элегантный и талантливейший архитектор.
В.Д.: Мельников и Жолтовский — это два полюса в архитектуре.
Б.Г.: Да, и тем не менее, мы считали возможным привлекать самых разных архитекторов, чтобы найти истину для сегодняшнего дня. В частности, Мельниковым была спланирована наша аллея, которая идет мимо теперешнего основного здания дирекции парка и когда-то рядом находившегося роскошного кинотеатра, выстроенного нами примерно около 32-го года. Это было сделано из здания бывшей фабрики Бромлея, которую перестроил и превратил в прекрасный кинотеатр интереснейший бразильский архитектор Дакоста. Он его построил по всем правилам нового архитектурного строительства. Внутри все было отделано черным деревом, сам зал был обнесен такими крытыми канелюрами, это было вообще впервые в Москве. Это было такое роскошное кино, в которое ездили просто не только со всей Москвы, но и из других городов.
В.Д.: Как называлось?
Б.Г.: А? К великому сожалению, во время войны в него попала бомба, поэтому его не удалось по-настоящему восстановить. Так вот это было с правой стороны. А с левой стороны, как войти через Зал приема, слева был Эстрадный театр, в котором работали и дирижировали знаменитые братья Покрасс, которых вы знаете. Один из них дожил почти до последних лет, второй, очень талантливый, умер намного раньше. Затем был Драматический театр, тоже летнего типа, но с хорошей системой, с хорошей акустикой, в нем выступали крупнейшие профессиональные театры и из Ленинграда, и из других больших городов, и московские, конечно. Скажем, Александрийский театр, ныне театр имени Пушкина, отмечал у нас в 1932 году годовщину своего стопятидесятилетия. Михаил Иванович Царев, нынешний наш председатель, тогда еще играл роли молодых любовников, в частности, в пьесе «Коварство и любовь» он играл Фердинанда, которая пользовалась колоссальным успехом. Затем был еще у нас театр специально для детей и закрытый кинотеатр, не считая открытые.
В.Д.: Закрытый что?
Б.Г.: Кинотеатр. Вот. Затем были эстрады, на которых происходило очень…
В.Д.: Закрытый кинотеатр, что там демонстрировалось?
Б.Г.: Кинофильмы. Несколько было открытых, а один был закрытый. Конечно, центром всего были танцевальные площадки у нас разнообразные. Очень большое количество, я дальше там об этом скажу, различных физкультурных площадок, в частности, целая система теннисных кортов, которыми мы очень помогли тогда развитию теннисного движения. И главным образом, конечно, мы очень любили и очень гордились этим, центром всего был наш Зеленый театр. Он был перестроен в 33-м году. Может быть, небезынтересно именно для этого рассказа (я об этом еще нигде не писала, что-то говорила кое-где, но нигде не писала), как возник театр. Понимаете, в 33-м году (это переход на вторую пятилетку) невероятно сложными стали обстоятельства в смысле снабжения материалами. Каждый метр кабеля, не то что километр, нужно было просить у Госплана, каждый кубометр досок тоже нужно было куда-то ходить запрашивать. Это вот на такие количества, понимаете. И заниматься этим приходилось не то что нашим начальникам отделов снабжения, а, начиная с меня и кончая моими заместителями и начальниками других отделов, полностью к тому же Московского совета. Был год необычайно напряженный в смысле строительства. И в этом году создается Зеленый театр на двадцать тысяч человек, с такими прекрасными местами, скамьями, с громаднейшей сценой, и в скором времени с роскошной кинобудкой для громадного экрана.
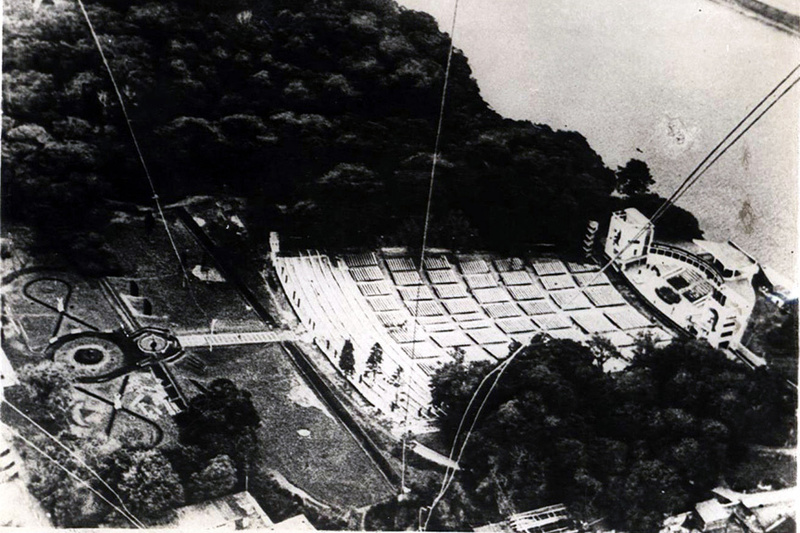
Б.Г.: А дело было так. Проходил грандиозный митинг, посвященный новому зданию, на котором присутствовали: нарком финансов, который сделал сообщение…
В.Д.: Гринько.
Б.Г.: Гринько, совершенно точно. Затем присутствовали члены ЦК и члены Политбюро, секретари МК и так далее. И примерно порядка двадцати пяти тысяч человек. И во время выступления Гринько вдруг прервалось радио. Началась такая тихая паника среди всего руководства, а выступать после этого нужно было представителю ЦК партии. И конечно, все глаза на меня, что, да как, что дальше будет? Я не стану вам рассказывать о всяких внутренних переживаниях, но один очень умный человек из Московского комитета партии мне сказал: «Когда вообще все сходят с ума, то один кто-то должен быть нормальным. И в данном случае этим нормальным должна быть ты». Мне, конечно, ничего другого не оставалось делать. Я вызвала…
В.Д.: А вы все-таки остались нормальной?
Б.Г.: Ну, видимо. Вызвала радиотехника и сказала ему: «Из моей зарплаты сто рублей — разберись, в чем дело, что случилось». Он полез на дерево и нашел, что там замкнулись две линии. А что мы сделали? Поскольку, вообще говоря, тогда еще очень несовершенная была радиосвязь, это был 33-й год, самое начало, весна 33-го года, то мы, боясь, что вдруг с одной линией что-нибудь случится, специально сделали вторую линию, но это была так называемая воздушка. И от ветра эти две воздушки поколебались, и получилось смыкание. Он его спокойнейшим образом разобрал, всё восстановил, раздвинул. Мы в это время сделали перерыв, руководство всё посидело у нас в приемной, по чашке чая выпили…
В.Д.: Это не пять минут, а час?
Б.Г.: Нет, нет, это продолжалось минут пятнадцать, минут пятнадцать. Но все, конечно, были, соответственно, в напряжении, что могло быть в зале и прервать такой митинг — расписаться в своем бессилии и так далее, и так далее. Все восстановлено было, все прошло благополучно, выступил представитель ЦК партии и так далее. На следующий день состоялось специальное бюро Московского комитета партии, на котором я была вызвана «на ковер» по вопросу о том, как это могло случиться. И вот тут произошел очень интересный разговор, который был молчаливо поддержан всеми, кто там присутствовал. И моим каким-то состоянием, ну, ва-банк. Ничего не оставалось другого, как поставить со всей остротой вопрос о том, почему и как, и будет ли это дальше. Меня спросили: «Ну как, можете вы объяснить?» Я говорю: «Да. — Как так? — А вот так, что если собирают двадцать тысяч человек, нельзя, чтобы аппаратура была на слюнях».
В.Д.: Как?
Б.Г.: На слюнях (смеются). Уж если ставить вопрос о том, что в век реконструкции крупнейших предприятий, в век того, что мы собираем такую грандиозную аудиторию, мы должны нормально соответствовать уровню техническому и прогрессу, который уже происходит. То есть мы должны построить настоящий радиоузел со всеми страховками, резервами и так далее. А было бы еще лучше, если бы мы могли иметь не пять тысяч мест, а остальные пятнадцать тысяч должны стоять или сидеть на земле, а иметь несравненно больше, учитывая тот громадный интерес, который существует к этим делам. И создать наконец Зеленый театр, о котором мы столько мечтаем, чтобы мы могли делать здесь и постановки и так далее, и так далее.
Много было любопытных реплик, одна из них была такая: «Вы подумайте, вместо того чтобы оправдываться, она на нас наступает, а главное, наступает правильно».
И тут же было принято решение в течение короткого времени выстроить Зеленый театр и сделать его соответствующим тем кондициям, которые составляют театр таким нужным и возможным, учитывая огромное политическое и художественное его значение для воспитания и культурного досуга огромной аудитории. Его выстроили в один месяц. В один месяц!
В.Д. (усмехается): Вам потом это припомнили?
Б.Г.: Нет, это мне не припомнили (смеется), нет. Наоборот, наоборот, в этом смысле мы считали, что добились очень многого, это было нашим крупным завоеванием. Особенно когда после этого мы здесь поставили, как известно, грандиозные оперные и балетные постановки, и это прозвучало вообще на весь мир. Так что же кроме хорошего можно было об этом сказать.
Конечно, может, будь я намного старше, я бы не рискнула вести такой разговор. А будь я по-другому воспитана, не будь я воспитана с пятнадцати лет в комсомоле, а с шестнадцати в партии, я и поступала бы не в пример дисциплинированее. Когда нас учили, понимаете, как всегда учили в партии, что если ты в чем-то убежден и уверен, то добивайся того, что нужно. А я была глубоко убеждена, что мы на таком этапе, когда нужно на какие-то настоящие технические и материальные рельсы ставить такую работу, которая связана с посещением огромным количеством людей.
У нас в дни праздников проходило до трехсот тысяч человек в день. Это же не то, что сейчас, понимаете, двадцать пять–тридцать тысяч проходит. А в отдельные дни доходило и до пятисот тысяч!
Разве можно было бы это без какой-то элементарной базы все делать. И вот почему, когда уже был построен Зеленый театр, и уже летом того года была первая постановка, в 33-м году…
В.Д.: А когда было замыкание, то театра Зеленого не было еще?
Б.Г.: Нет, конечно, нет. Там вообще была просто такая легкая воздушка. А когда был построен Зеленый театр, было построено шесть шкафов, шесть. То есть это было так: один выходит — второй есть, второй выходит — третий, причем другая система усиления совсем. И затем у нас уже был такой специальный микшер на радио. Такой крупнейший специалист, Илья Семенович Гродзенский, когда уже начались спектакли, он усиление микшировал так, что оно звучало, как в настоящем театре. Это имело колоссальное значение. И любая часть вот этого нового радиотехнического и светового устройства… Совершенно по-другому был свет выстроен. Мы смогли приступить к созданию грандиозных спектаклей.
У нас был поставлен в 34-м году силами Большого театра акт из «Псковитянки», половецкий стан из «Князя Игоря», из балета «Пламя Парижа» Асафьева. В частности, в «Князе Игоре» половецкий стан был так сделан: бродили лошади, светила луна, стояли юрты, коврами из Восточного музея завесили все эти огромные территории. И Оскар Фрид, такой знаменитый дирижер, который к нам тогда приезжал и помогал, сказал, что он многое видел в мире, но такого впечатления он никогда не получал, такого особого впечатления от художественно естественной постановки, которое получил тогда.
А уже в 35-м году была поставлена уже ставшая хрестоматийной классикой опера «Кармен». Была она поставлена силами Большого театра, и великим составом, и великим хором, оркестром и мимансом. Дирижировал тогда Мелик-Пашаев. И это была такая постановка… Художником был знаменитый Владимир Владимирович Дмитриев, который, как вы знаете, во МХАТе был художником и так далее. Она была сделана специально по совершенно иной редакции сценической для Зеленого театра. Начиная с того, что он превратил всю сцену в город Севилью, а справа эта табачная фабрика, затем там были выстроены горы. И, наконец, в последнем акте были у нас такие трибуны большие, цирк был не закрытый, как всегда, а открытый, и там сидело пятьсот роскошных испанок и испанцев, с веерами, в соответствующих нарядах. А средь сцены проходила такая парадная колонна матадоров, с пикадором и тореадором на лошадях, в костюмах, и их приветствовала вся публика. То есть такой вставки, под музыку Бизе, конечно, вообще нигде никогда не было. Гораздо позднее Сергей Штейн показал кусочек цирка, а тут был вроде открытый цирк, понимаете. И все дамы бросали веера этим матадорам и цветы. Публика с первого раза узнала об этом и приносила специально веера и цветы, и тоже бросала этой колонне. То есть это была совершенно необычная постановка, которая вызвала тогда очень восторженные отклики в печати. Вспомним хотя бы то, что посол Франции, интеллигентнейший и интереснейший человек Шарль Альфан, хорошо относившийся вообще к Советскому Союзу, и один из таких послов, так сказать, примечательных. Он сказал, что если бы Мериме и Бизе могли встать из гроба и посмотреть эту постановку, то они бы поняли, для чего они жили. Затем уже после этого явного успеха, большого, а делал это Большой театр, и посмотрело этот спектакль…
В.Д.: Это 34-й?
Б.Г.: 35-й, в 34-м году были, я вам сказала, «Псковитянка», затем «Князь Игорь» и акт из «Пламя Парижа». Причем ставил «Псковитянку» и «Князя Игоря» Баратов, крупнейший оперный режиссер. А «Пламя Парижа» ставил такой знаменитый балетмейстер Вайнонен. Важно было, что привлекались самые крупные силы для того, чтобы это был тот уровень, который мог быть для такой колоссальной аудитории. А в 35-м году была «Кармен» у нас, затем была «Свадьба в Малиновке», которую поставил театр Моссовета во главе с Яроном. Затем следующие пару лет была «Сорочинская ярмарка» поставлена и «Бахчисарайский фонтан». Непосредственное участие, в частности, в «Бахчисарайском фонтане» и подготовке «Корсара» принимал театр Немировича-Данченко по прямому указанию Владимира Ивановича Немировича-Данченко, который побывал на этих спектаклях и сказал, что это он считает чрезвычайно интересным для просвещения и так далее. Фактически там был целый ряд других постановок, «Кавказский пленник», уже в последующие годы, не только вот в 30-х годах. Уже в 40-х годах ставили «Красный мак» Глиэра, ставили «Спартак», ставили «Болеро» и многие другие постановки. Это послужило добрым началом для последующих спектаклей в других «зеленых театрах» в других парках.
Хочу добавить, что в Зеленом театре проходили еще очень интересные дела. Там проходили первые Всесоюзные олимпиады художественного творчества. Там Немцов, знаменитый хормейстер из Ленинграда, сделал сводный хор в пять тысяч человек. Там Оскар Фрид, известнейший дирижер, сделал сводный оркестр из любительских симфонических оркестров в две тысячи человек. То есть там проходили какие-то громаднейшие фестивали, которые привлекали массу заинтересованной публики. И затем праздники всех жанров искусств. Там проходили праздники поэзии из года в год, где был и Луговской молодой, где выступали все наиболее интересные современные поэты. Уткин очень много выступал, Жаров выступал, Безыменский выступал. В общем, это считалось таким большим для них праздником. И там же проводились и праздники музыки, и праздники кино и так далее.
Я хотела бы закончить с Зеленым театром на том, что на его базе и с помощью одного журнала, который как-то удалось подглядеть, иностранного, было выстроено другое потрясающее учреждение — киноэкран «Гигант». Надо было уж добиться того, чтобы Научно-исследовательский институт кинематографии… Был такой Голдовский, интереснейший человек, крупнейший профессор, который создал и панораму, и кругораму, и вообще все известные новые конструкции в кино. Он вместе с группой людей разрешил проблему постройки единственного в мире театра с расстоянием от экрана в сто двадцать метров, для того чтобы места все были заняты, понимаете? То есть у нас экран был на сцене, высота его была примерно выше трехэтажного дома, двести семьдесят квадратных метров — грандиозный экран. Он занимал весь задник сцены, а удаленность его была на сто двадцать метров. Самая большая удаленность во всем мире была на сорок–пятьдесят метров, даже в тех горах-театрах, которые строились в Америке, куда на машинах приезжали и смотрели прямо из машин на эти громадные экраны. Это была очень крупная техническая победа научно-исследовательского института, а звуковую часть нам решила Центральная радиолаборатория Ленинграда. И в мае 36-го года фильмом «Цирк», с разрешения Шумяцкого, который тогда заведовал кино, мы открыли этот Зеленый театр. Это было действительно колоссальное событие. Вот об этом есть специальные слова Юрия Жукова, вам небезызвестного…
В.Д.: В мае 36-го года?
Б.Г.: Да-да. Жуков тогда работал журналистом «Комсомольской правды». Он дал такой восторженный отзыв относительно этого самого кино, которое было открыто для такой колоссальной аудитории. За несколько дней этот фильм посмотрело несколько сот тысяч человек, чего очень боялся Шумяцкий, думая, что мы сорвем посещаемость дальнейшую. Но, как вы знаете, «Цирк» на протяжении многих десятилетий был и потом. И мне довелось через тридцать лет выступать вместе с Александровым и Орловой в Художественном кинотеатре и вспоминать о том, как впервые «Цирк» зазвучал в этом грандиозном киногиганте, который был там построен.
Здесь я бы добавила такую важную деталь, что аппаратура для него, с разрешения правительства, была закуплена в Англии. Это был Super Simplex, специальный киноаппарат огромной силы и света, который давал возможность светить на такое громадное расстояние. И сначала мы получили разрешение правительства на один аппарат, но когда все руководство, члены правительства и ЦК партии приехали и посмотрели первый фильм, то это произвело такое впечатление, что тут же было решено купить второй. И такое значение придавалось тому, что это средство пропаганды, а кино, как известно, «важнейшее из искусств» и так далее, что было решено купить второй киноаппарат, что и было сделано в 36-м году. Потом он работал на протяжении ряда лет уже как совершенно нормальный аппарат без остановки, до самой войны, когда, к сожалению, один из аппаратов куда-то запропал.
Еще два слова мне хотелось бы сказать о таком примечательном месте в парке, которое почему-то производило особое впечатление, о нем очень часто вспоминали люди. Кстати, знаете, кто вспоминал? Вспоминали люди иностранные и наши деятели партии, которые бывали в подполье, которые потом, к великому сожалению, попадали в капиталистических странах в тюрьмы. Они, приезжая, рассказывали, что когда им было очень трудно, в трудных условиях, то они вспоминали парк вообще и наш Остров танцев. Это было, действительно, пленительное зрелище — на небольшом островке, который находится и поныне на Голицынском пруду… По нашему убеждению, мы говорили с архитекторами, он, вероятно, был задуман для сцены, потому что он насыпной, специально круглый, насажденный деревьями, с будкой большой. Там наш очень способный, очень талантливый молодой балетмейстер, он впоследствии заведовал балетмейстерским отделением в ГИТИСе, заслуженный деятель искусств Анатолий Васильевич Шатин. Тогда он был совсем молодой человек лет двадцати четырех-пяти. Он задумал создать такой театр из нашей молодежи, самодеятельной молодежи. Там была сделана площадка специальная, пол очень хороший, гибкий, на котором можно было танцевать, деревянный, и чрезвычайно легкие декорации, потому что в основном все шло среди зелени. Там были сделаны специальные балеты «Маркобомба», «Волшебная флейта» и впервые были сделаны «Танцы народов». До моисеевских «Танцев народов» там была целая программа танцев народов. Могу вам добавить, что самую высокую оценку дала не только театру внешнему, но именно работе его Екатерина Васильевна Гельцер, которая несколько раз приезжала специально смотреть это. Он пользовался таким успехом, потому что там был, во-первых, световой занавес сделан, во-вторых, водный занавес такой.
В.Д.: Что значит световой занавес?
Б.Г.: Сейчас скажу. Световой занавес был сделан несколькими прожекторами вместо занавеса из тряпок. Они смыкали лучи, и получался световой занавес. А кроме того, был еще занавес водный. Были проложены трубы, в определенный момент они открывались, и поднимались струи на большую высоту, которые подсвечивались еще и прожекторами, так что получалась необычайная красота игры света и воды. Это было красивым зрелищем для всей публики. Потому что он пользовался таким успехом, мы в 35-м году выстроили амфитеатр на тысячу человек, прямо перед этим прудом, который закрывался сзади. Получилась возможность сделать его платным, потому что была такая ограда, прекрасно было видно все зрителям, с боков находились специально установленные фермы для света и так далее. Подъезжали все на лодках, никаких мостиков не было, переходили туда. Зрелище это было, действительно, пленительно интересным. Кроме того, на Голицынском пруду мы бросили еще пару подсвеченных фонтанчиков сбоку, так что они тоже играли и помогали делу. К великому сожалению, пока не удалось добиться того, чтобы восстановить этот остров, хотя он имел значение, далеко уходящее за пределы наших…
В.Д.: А сейчас его нет?
Б.Г.: Есть островок, но нет Острова танца. Нет и труппы этой, хотя она была самодеятельной. А из этих ребят выросли потом прекрасные танцоры, в частности, двое, Злобин и Кудельская, самые лучшие и способные наши ребята в 35-м году приняли участие во Всемирном конкурсе танцевальных пар, самодеятельных, в Англии, получили там премию и были очень высоко оценены. Мы их провожали, и мы их встречали потом. Там сама королева вручала им призы, отметив, насколько, понимаете, талантливы были эти ребята. Вот такое место, как Остров танцев, я считаю тоже примечательным в том смысле, что если захотеть, то можно чудесами много добиться.
Что еще из старых, особых, я бы сказала, формах деятельности парка, которые органически не входили в его прямые обязанности. Я уже упомянула, что к нам как-то пришли из хора Пятницкого. Пришел Захаров, их руководитель…
В.Д.: Сам?
Б.Г.: Да, Владимир Захаров. Пришел еще Казьмин, который был тогда директором, который очень много сделал для этого. И они рассказали, что не имеют никаких средств к существованию. Это была такая пора, когда, понимаете, довольно трудно было вот таким фольклорным коллективам пробиваться. Я не могу долго останавливаться сейчас на условиях этого дела, в общем, особой поддержки им не было. И этот интереснейший коллектив, созданный самим Пятницким, вы знаете всю эту историю, который представлял коренное, русское, народное искусство, стоял перед фактом, что он должен распустить своих людей, потому что не было никаких источников существования.
Несмотря на то, что это не входило прямо в планы нашей работы, мы посоветовались, доложили потом Московскому комитету партии и пришли к заключению, что мы их возьмем на договорных началах и будем их поддерживать. Это было примерно в 35-м — 34-м году, даже в 33-м, если быть точнее. Два года вместе мы работали на таких началах. Они ездили по Сибири, по Уралу, но мы им гарантировали зарплату, даже если бы они нигде не зарабатывали, то есть мы шли на этот риск. И вот в книге воспоминаний о Захарове в двух местах пишет один очень крупный музыкальный критик о том, какую роль сыграла большую дирекция в спасении этого коллектива, который сейчас прославлен на весь мир. У меня есть такая очень забавная страничка композитора Копосова, который описывает, как мы отмечали через год после решения о том, что мы берем их к себе на гарантию, в квартире Пятницкого на Божедомке отмечали это событие, описывает и встречу, которая была там с Захаровым, как мы с ним весело плясали. Там Ковалева была, которая пела. Отмечалось это событие как выдающееся для их жизни явление, с благодарностью коллективу парка, который им помог. Но уже через год, в 35-м году, когда был создан Комитет по делам искусств во главе с Керженцевым, этот коллектив, как было сказано, с великой благодарностью был забран у нас и стал государственным коллективом. Вот так было с хором Пятницкого. Кстати говоря, в последующие годы, во время какого-то моего юбилея они все пришли, через тридцать лет, и Прокошина выступала и говорила о том, какую роль в этом сыграл парк. Мне кажется, что это просто было какое-то понимание государственных художественных задач, которые так тогда стояли.
Так же было и со студией Айседоры Дункан. Что такое студия Айседоры, вы прекрасно знаете. Как она создала из детей эту студию в 22-м году, затем она уехала и погибла. Ее приемная дочь Ирма Дункан, которая была здесь, тоже уехала в Америку. И осталась эта группа детей, уже девушек тогда, ими выращенных, то есть это были в основном дети рабочих. Все это было сделано при огромной поддержке Луначарского. Он, в частности, сыграл роль в том, чтобы обратились к нам и поставили вопрос, не можем ли мы им помочь как-нибудь просуществовать. И мы на это пошли. Мы взяли эту студию, хотя, конечно, материально это было сложно довольно.
В.Д.: Студия уже была имени Дункан?
Б.Г.: Да, да, тогда она была уже имени Айседоры Дункан.
В.Д.: А она погибла в…
Б.Г.: Она в 25-м.
В.Д.: А не в 28-м – 29-м?
Б.Г.: Ну, в общем, где-то в этих годах. Она погибла, правда, после Есенина. Есенин в 26-м3, а она через год-два после этого. В 25-м погибли ее дети. Дети, такой трагический был случай, оба ребенка. А она, действительно, несколько позднее.
В.Д.: В машине.
Б.Г.: Их завезли в воду, и они погибли в воде. То есть машина как будто бы въехала в воду, а они там находились. Это особый разговор.
Так вот, эту студию мы тогда тоже взяли к себе. Через год приехал Гордон Крэг в Советский Союз. Он тогда ставил спектакль, по-моему «Гамлет», он ставил в МХАТе. А Гордон Крэг был же муж Айседоры Дункан, и одним из детей был его сын, который вот погиб тогда. Крэг захотел посмотреть эту студию. Я тогда его принимала. Мы с ним сидели в этом кинотеатре, о котором я вам говорила. Показали ему этих девочек, которые, надо сказать, очень прилично выступали. Он очень правильно сказал: «Это прекрасно, что сохранился какой-то дух Айседоры». То есть сохранился ее истинный стиль. «Но, — с великой грустью добавил он, — ни таланта, ни ее особого темперамента, который так помогал ей создавать эти великие образцы, в коллективе нет. И все-таки большое вам спасибо за то, что сохранился коллектив ее имени».
В.Д.: А когда он распался?
Б.Г.: Он существовал еще долго. Он существовал еще в Москонцерте, мы его потом передали, когда образовался Комитет по делам искусства, его тоже взяли. И он существовал еще около двадцати лет. Жена одного из наших товарищей, заслуженного деятеля искусств, была одной из коренных… Дочка рабочего, работницы московской, она поступила в семь лет. И она потом вышла замуж за одного нашего начальника отдела. Вот их привлекали во время столетия Айседоры Дункан. С ними большие беседы были. Она как раз мне рассказывала относительно всей этой группы, которая работала порядка около двадцати лет как студия Айседоры Дункан. Там у них был Шейнин4, по-моему, директор студии, который написал потом известные книжки о Есенине и об Айседоре Дункан. Знаете?
В.Д.: Нет.
Б.Г.: Поинтересуйтесь, они хорошо написаны. Но он как раз был директор, так сказать… Был такой еще Бажанов, коммерческий директор, а он был непосредственно руководитель.
В.Д.: Отношения не имел этот Шейнин к знаменитому юристу?
Б.Г.: Нет-нет. Тот знаменитый юрист был очень добрым моим знакомым с комсомольских лет. Собственно говоря, мы с ним в одном райкоме были, в Краснопресненском. Очень много встречались, очень крепко дружили, но он никакого отношения не имел. Драматург был будущий. Лев Шейнин, вы имеете в виду этого?
В.Д.: Да.
Б.Г.: Ну вот. Что надо еще сказать? Мы придавали громадное значение тому, что парк являлся местом выявления и развития художественного начала и художественных способностей в людях. Юрий Олеша, известный вам писатель, написал однажды очень интересную статью, которая называлась «Мое второе я». Это было после того, как он посетил парк, походил и посмотрел, как занимаются одни рисованием, другие лепкой, не говоря уже о нашем прекрасном детском городке, в котором это все было необычайно развито. И для взрослых. В частности, была студия звукозаписи, одна из первых, где человек мог прийти, пропеть, потом ему давали пластинку.
В.Д.: Тогда, по-моему, еще не пластинки, а что-то…
Б.Г.: Нет, уже была пластиночка, которую получали люди, запись такую свою.
В.Д.: Это уже перед войной было?
Б.Г.: Да, это был уже 34-й – 35-й год примерно. И вот он назвал эту статью «Мое второе я» — как рождается новое «я», то есть как выявляются какие-то творческие склонности. Огромное значение мы придавали развитию всякого рода таких способностей.
Я скажу несколько слов еще о громадном значении парка с точки зрения оздоровительной, ведь он был Парком культуры и отдыха. Поэтому мы придавали громадное значение проблемам оздоровления и отдыха оздоровительного. То есть было большое количество спортивных площадок. Мы создали городки однодневного отдыха, о которых я вам говорила.

Мы провели интереснейшее исследование с Институтом курортологии, во главе которого стоял интереснейший человек Григорий Михайлович Данишевский. Специальное исследование: какое значение имеет проведение трех-четырех дней однодневного отдыха на производительность труда. Данные получились чрезвычайно интересные. Проведение, понимаете, одного, а тем более двух или полутора дней способствовали прямому повышению производительности труда в последующие дни. Это сделано на научной базе.
Мы были связаны тогда с Институтом экспериментальной медицины для изучения целого ряда влияний, воздействий. Мы проводили массу социологических опросов, бесед. Упоминает, в частности, Галанов в своей книге наши поездки на квартиры к рабочим, на квартиры к актерам. Вот мы были на квартире у Пашенной. Опросы людей: что им хочется, что им нравится, какие у них есть предложения и так далее, и так далее.
Летняя линии физкультурная, я уже вам сказала, у нас была очень широко развита. У нас были танцы, школа плавания, самые разнообразные физкультурные площадки, уйма соревнований, на которые собирались тысячи людей тогда. Но особенно я бы хотела подчеркнуть — это создание первого в мире зимнего парка. Первого в мире! Это было в 31-м году. Если за границей бывали отдельно лыжи, отдельно катки, отдельно еще что-нибудь. Но вот такой, понимаете, сконцентрированный зимний парк, в котором были, во-первых, колоссальные катки, у нас рассчитаны были катки единовременно на пятнадцать тысяч человек в течение дня. Были залиты все аллеи, были залиты площадки, были залиты пруды, по ним можно было по всем прокатиться, вся набережная была залита, все массовое поле. Причем были разбиты площадки: для начинающих, для тех, которые катаются на ножах, так называемых…
В.Д.: На лезвиях.

Б.Г.: Да. Затем, для фигуристов, для танцоров, первая школа танцев на льду была создана у нас. Впервые у нас выступали фигурные пары, начиналось обучение на специальной площадке для фигурного катания такая. Систематически первые чемпионы, и ленинградские, и наши выступали здесь. Затем мы инициировали всякие ледяные горы. Я уже вам упоминала одну, которую построил когда-то Подвойский на Воробьевых горах, а у нас на этой территории были.

Затем у нас был прекраснейший Театр масок, огромных масок, которые выступали не только летом, но и зимой: они катались на коньках. Были веселейшие маски вроде такой коровы из двух частей, которая разрывалась во время танца на две части и съезжалась противоположными частями к всеобщему удовольствию. Это были на специальных площадках такие спектакли, которые разыгрывал Театр масок. У нас были духовые оркестры, которые были на коньках специально, так сказать, ездили и так далее.
Что еще я отметила бы из зимних интереснейших вещей — это проведение целого ряда парадов Советской армии 23 февраля. Зимние парады проводились у нас, причем их проводил Московский военный округ во главе со всем начальством. На одном из них присутствовал Блюхер, всегда был Корк, командующий, и Шапошников из штаба армии и многие, многие другие высшие военачальники. Они обычно стояли на набережной, а парад проходил по Москве-реке, причем это были и пешие, и на специально приспособленных санях, и на лыжах. Очень большие отряды проходили. Это был официальный совершенно парад, который переходил потом в громадный праздник на территории, с военными оркестрами, с большими концертами зимними, с Театром масок, и прочее, и прочее. А когда возобновилась елка с легкой руки Павла Петровича Постышева, то у нас стали колоссальнейшие елки.
Еще у нас было замечательное освещение, у нас был удивительно талантливый художник-осветитель Богданов, который ввел такие мерцающие громадные панно, их было видно с территории Крымского вала, когда идешь. Громаднейшие электрические панно, мигающие, очень красиво освещали, помогали парку. Сейчас я вам могу сказать, что сотни и бегунов, и фигуристов особенно, уж не говоря о танцорах на льду, потому что там была создана школа, которая воспитала потом большое количество, пошли из этого первого зимнего парка. Но вопросам оздоровления было посвящено и многое другое. Галанов вспоминает об этом. Этой проблеме в самых разных опосредствованиях уделялось большое внимание. Я перейду к последнему разделу…

В.Д.: А Галанов, он что?..
Б.Г.: Он был репортер тогда, он был репортер «Вечерней Москвы». Так как печать тогда о парке писала чрезвычайно много, в отличие от теперешних времен. Специально издавались, я помню, «Рабочая Москва», например, целый номер выпустила к открытию парка. Все открытия парка 18 мая где-то превращались в огромный праздник общегородской. Достаточно вам сказать, что на карнавале 35-го года уже было столько людей, что вообще нельзя было с этим количеством справиться. Причем под масками было очень большое количество людей, но много было и без масок. Поэтому карнавал 36-го года мы организовали так. Было продано сто тысяч билетов. Каждый билет включал в себя пакет, в котором был карнавальный костюм: такие аппликации, шапки специальные, манжеты, скажем, обязательно маска, конфетти, серпантин, всякие стишки внутри и так далее. Эти билеты были раскуплены в течение нескольких дней.

Б.Г.: Для того чтобы не было такого скопления, как в 35-м году, было перекрыто движение у Смоленской, у Октябрьской площади, и кругом сделано добровольное оцепление из нашей молодежи, чтобы не могли особенно проникнуть. И все-таки, конечно, было народу больше, чем те сто тысяч, которые эти билеты купили. Причем билет стоил десять рублей, это по тем временам были, в общем, довольно большие деньги. И все равно, и все равно это имело колоссальнейший успех, потому что действительно всё было карнавализировано, не разрешали ходить без масок. Было огромное количество программ. Продолжался этот карнавал всю ночь, он кончился в шесть утра. В четыре часа ночи выступал в Зеленом театре ансамбль Моисеева, в пять утра — оркестр Утесова. Мы с ним недавно как раз об этом деле вспоминали. А до этого была еще колоссальная программа. Насколько это вызывало интерес? Достаточно сказать, что в первом карнавале участвовало порядка сорока пяти оркестров и приблизительно около тридцати пяти тысяч колонна карнавальная. Присутствовал Андрей Андреевич Андреев, секретарь ЦК партии. Он сидел в Зеленом театре, в ложе, и смотрел на это шествие карнавальное, которое проходило необычайно разнообразно, потому что был конкурс между коллективами заводов, кто лучше себя представит. Вот эти два карнавала особенно мне запомнились. В них принимали участие такие интереснейшие люди как жена Литвинова Максима Максимовича, которая сама себе сделала вместе с дочкой, у нее дочка художница, Татьяна, сделали очень интересные костюмы.
В.Д.: У нас на филологическом факультете…
Б.Г.: Да? Ну, вот видите. Под масками были совершенно неожиданные люди, весьма ответственные работники, которые с громадным удовольствием, так, чтобы их не видели, смотрели и принимали участие во всем этом деле. Это, действительно, был замечательный… Может быть, даже такого масштаба карнавал больше не повторялся. А принимали участие в его создании все крупнейшие художники — Вильямс, Рындин, самые разнообразные художники и театральные, Люшин, был такой художник. Даже художники, которые не были театрально-костюмерными, и то принимали участие в разных формах. Парк совершенно необычайно внешне выглядел.
Все фонари загримировали таким образом: сделали шляпы на них, одели плащи со шпагами, на фонарях нарисовали физиономии. Такое было впечатление, что стоит целая группа каких-то д’Артаньянов со шпагами.
Б.Г.: Что мне хотелось бы еще сказать напоследок, для того чтобы перейти к отзывам, это…
В.Д.: Когда все это было, даты не помните?
Б.Г.: Помню. Первый карнавал был 8 июля 1935 года, а второй карнавал был 11-го. Он должен был быть 8-го, потом уже его перенесли, тогда же в июле месяце День конституции проводился.
В.Д.: Да.
Б.Г.: А второй был 11-го, была прекрасная…
В.Д.: Тоже в 35-м?
Б.Г.: Нет, в 36-м, на следующий год. Потом повторялись карнавалы, на некоторых мы были. Но такого масштаба и такого внимания всего города, когда перекрыли движение, когда помогали все службы Московского совета, пожалуй, уже не было. Хотя, может быть, и стоило прививать эту традицию, которая, как мне кажется, не была у нас еще распространена.
Б.Г.: Переходим к последнему разделу. Я хотела бы сказать об отзывах и об оценках самых интересных, крупнейших людей. Я прежде всего бы сказала, что было самой высокой для нас оценкой, самым дорогим для нас… Помимо того, что мы имели много благодарностей, что мы получили Знамя в 32-м году Президиума ВЦСПС, которое нам лично вручал Шверник, мы получили массу почетных грамот. В 33-м году к пятилетию парка нам было присвоено звание «Отличного парка», где было сказано «превратить парк в образцово-показательный». У нас с самого начала было два филиала — Измайловский и Сокольнический. А в 31-м году, по нашей же инициативе, их сделали самостоятельными парками. Кроме того, в стране уже существовало более двухсот парков. У нас существовал такой интереснейший отдел — научно-методический центр, в котором работали очень квалифицированные люди, так сказать, методисты-теоретики. С одной стороны, они собирали колоссальный материал, с другой стороны, очень умело пользовались им для консультаций всем паркам страны.
В.Д.: А где этот материал?
Б.Г.: Он весь погиб в октябре 1941 года.
В.Д.: Сожгли?
Б.Г.: Да. Все было тогда по определенному указанию сожжено. Это был грандиозный материал, сохранилось немного. Там была колоссальная фототека, громаднейшее количество сценариев, масса… Эта вот книга5 — это уникальное совершенно дело, которое было случайно сохранено. Я вот думаю все-таки в ЦГАЛИ когда-нибудь передать.
В.Д.: Обязательно.
Б.Г.: Да, потому что эти автографы, они, как говорится, всех денег стоят. Этот научно-методический центр тоже был, конечно, огромным завоеванием.
В.Д.: В 41-м году, в период, когда…
Б.Г.: Да, конечно, все архивы тогда погибли, а это потом кусочками кое-что собиралось. Так вот, я говорю, самой высокой, пожалуй, для нас оценкой, кроме дорогой оценки со стороны организаций руководящих, была оценка народа, оценка людей, понимаете? Парк так любили, что его всегда называли самым любимым местом отдыха. Я никогда не могла забыть и очень часто приводила в своих докладах всего одну фразу, но очень для нас дорогую, фразу Паустовского, который в своем «Кара-Бугазе» написал о том, что там берегли каждую травинку и любили эти зеленые места так, как любят москвичи свой Парк культуры и отдыха. Свидетельство такого выдающегося мастера по этому поводу было для нас чрезвычайно дорого.
Естественно, невозможно привести ни тысячи писем, ни сотни пожеланий, ни огромный актив, который бесплатно, добровольно работал вокруг парка. Пожалуй, это было основным. Но наряду с этим, конечно, очень важно, что выдающиеся деятели культуры, действительно видавшие в мире необычайно много важного и интересного, давали такие для нас лестные оценки, которые, честно говоря, нас самих поражали. Например, один американский журналист, мы не смогли тогда сохранить его фамилию, написал (у нас в книге это зафиксировано), что Храм Христа — это Москва прошлого, Парк культуры — это Москва будущего. Бернард Шоу, который был у нас в 33-м6 году, с огромным интересом посмотрел, сказал через лорда (это обошло печать тогда), что это удивительное учреждение, в котором сочетается народный университет с массовым праздником.
В.Д.: Это записано?
Б.Г.: Да, это записано в некоторых статьях.
В.Д.: Вам это он написал?
Б.Г.: Это он сказал через лорда, с которым он вместе был, который написал это в английской печати, а потом у нас уже был перевод. Это было в 33-м году.

Б.Г.: В 34-м году парк посетил Герберт Уэллс. Если вы помните, он приехал для того, чтобы проверить, так сказать, свои споры, которые были у него с Владимиром Ильичом Лениным в 20-м году. И так уж получилось, что он как раз к нам приехал в тот день, когда он был в ЦК партии, где происходил какой-то разговор. После этого, уже ближе к вечерку он приехал к нам. Я не могу долго на этом останавливаться, это тоже записано, об этом есть в книге Галанова. Разговор, который происходил с ним, был записан и всегда производит очень большое впечатление. В конце, глядя на массы света, на это рассыпанное количество огней, на иллюминацию в парке и так далее, он признался: «Да, никогда бы не мог подумать тогда, когда была «Россия во мгле», что смогу увидеть что-либо подобное». После довольно длительного пребывания в парке и большой беседы со мной (вместе со мной был Константин Уманский, известный поэт, заведующий отделом печати Наркоминдела, впоследствии наш посол в Америке и в Мексике, блестяще владевший английским языком) он сказал мне: «Я вас поздравляю, вы директор фабрики счастливых людей».
В.Д.: Как?
Б.Г.: «Вы директор фабрики счастливых людей». На что я ему ответила: «Я вас благодарю, но я могу на себя принять только, что мы руководители одного из цехов этой фабрики, ибо такой фабрикой является вся наша страна». На что он проворчал, что удивительная страна, даже комплимента они не могут принять на свой счет без того, чтобы не поделить его со всеми остальными.
В.Д. (смеется): Это кто?
Б.Г.: Герберт Уэллс.
В.Д.: Сам Герберт Уэллс?
Б.Г.: Да. Потом он написал такую запись, которая вызвала…
В.Д.: Есть эта запись?
Б.Г.: Да. Эта запись была опубликована потом в «СССР на стройке», переведена на много языков и обошла всю мировую печать. Алексей Максимович Горький, когда я ему рассказала подробно об этой встрече, его этот очень интересовало, от меня потребовал, чтобы я обязательно подробно написала об этой встрече, что я и сделала вот. А Уэллс написал: «Когда я умру для капитализма и снова проснусь для социализма, то надеюсь, что это будет только и именно в Парке культуры и отдыха, и надеюсь, в сопровождении…» (Смеются). Да. Там было такое многоточие, вот его подлинный рисуночек, на котором я изображена ангелочком, а он на меня глядит очень внимательно. Галанов пишет при этом еще, что в первом варианте его подписи были слова «и что меня встретит там очаровательная Бетти Глан». Ему редактор это вычеркнул, когда он дал в репортаже, а мы просто попросили его это здесь не записывать. И он опять сказал: «Что за странная страна, в которой даже женщине нельзя сделать комплимент» (смеются). Вот. Но это все, понимаете, шутки. Самое, конечно, главное было, что он очень высоко оценил просто значение всей этой работы, с большущим вниманием все осмотрел и при этом дал весьма положительный отзыв. Даже мне прислал письмо по этому поводу, о котором я написала там. Алексей Максимович был необычайно доволен. Он меня просил, Герберт Уэллс, передать Алексею Максимовичу поздравление с тем, что парк носит его имя. Он был этим фактом очень доволен.
После этого, в 34-м году нас посетил еще Мартин Андерсен-Нексё, знаете, знаменитый датский писатель.
В.Д.: Я помню его.
Б.Г.: Он очень много хороших слов написал относительно парка, и назвал наш советский парк «Освобождение человека».
Великий гуманист Ромен Роллан посетил наш парк в 35-м году. Примечательно, что когда он ехал из Парижа в Москву, то по дороге он составил себе план того, что он хочет посмотреть. И в первых строчках было написано: «Метро и Парк Культуры и отдыха». Это мне показала Мария Павловна Роллан, его жена, когда мы познакомились, еще до того, как он приехал к нам, в Доме дружбы у Аросьева. Был такой председатель в Доме дружбы.
В.Д.: Я помню эту фамилию.
Б.Г.: Он был председателем.
В.Д.: Чего?
Б.Г.: Дома дружбы. Тогда было как общество дружбы. Там мы познакомились на приеме, на первом приеме Ромена Роллана. Меня пригласили, и я беседовала с Марией Павловной, и она мне показала эту запись и сказала, что он чрезвычайно интересуется. Через несколько дней я за ними приехала в особняк Горького, где они жили на Никитской, и мы поехали в парк. Об этом тоже специально написано, об этом передавалось по радио, об этом очень много писалось за границей, потому что он оставил такую необычайно значительную запись в этой книге, из которой я зачитаю вам только одну последнюю фразу: «Я хотел бы, чтоб мир Запада, который тщеславно драпируется своим гуманизмом, предназначенным для удовлетворения гордости и рождения скуки небольшой группы избранных, пришел бы учиться сюда подлинному благородному гуманизму, который питает все человечество, обновляя душу и тело».
В.Д.: Это Мартин Андерсен-Нексё?
Б.Г.: Нет, это Ромен Роллан.
В.Д.: Роллан. Это какой год?
Б.Г.: Это 35-й год.
В.Д.: А он умер?
В.Д.: Он гораздо позднее умер.
В.Д.: Позднее?
Б.Г.: Да. Тут у меня, во-первых, снимки Ромена Роллана… Кстати говоря, был снят целый кинофильм, который погиб, как многое другое. Вот Ромен Роллан с детьми. Он главным образом посетил детский городок, который ему необычайно понравился. Вот он, рядышком я в белом берете, а вот мы втроем7. Этот снимок обошел очень многие журналы… Причем, действительно, он был прав, нас фотографировали вечером, он сказал: «У вас все оптимисты, даже фотографы. Они думают, что у них что-нибудь получится». И действительно, он оказался прав, потому что снимок был не самый удачный.
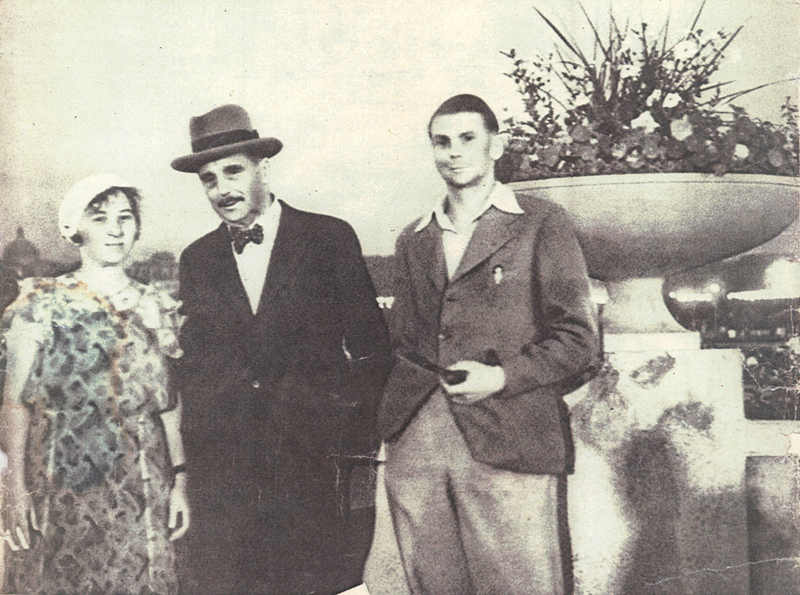
В.Д.: А это кто?
Б.Г.: А это его сын, биолог. Тридцатипятилетний сын его, который тоже был в полном восторге, который мне даже, по предложению отца, сказал: «Это все вам разрешается, но танцевать вам, наверно, не разрешают. Хоть вы и молодая женщина, но танцевать вам, наверно, не разрешается». Я говорю: «Да что вы говорите! Пойдемте танцевать!» А мы были в ресторане. У нас был большой, типа корабля, ресторан, который был около Зеленого театра. Прямо на Москве-реке стоял громаднейший ресторан. Говорю: «Пожалуйста, ради бога. Пошли?» Он говорит: «Нет, я предоставляю это своему сыну». Мы с его сыном пошли под великолепный оркестр, который там был, танцевать. И он был искренне поражен, что у нас даже такая вольность разрешается. А тогда в моде были все фокстроты, танго и прочее дело. Мы с ним прекрасно потанцевали. Это тоже, кстати, записано. У нас была специальная школа танцев, между прочим, одна из самых первых в Москве. Была школа танцев бальных и новых танцев. Преподавал в ней Ильин, который специальное образование получил в Соединенных Штатах в свое время, и он у нас был главный преподаватель. Эта традиция сохранялась по сию пору. Школа танцев разнообразных все время сейчас существует.
Ромен Роллан был чрезвычайно растроган всем виденным. Дети его закидали подарками, машина до верха… Причем главным образом своими изделиями: какими-то маленькими машинами и так далее. Один поднес моторчик и сказал: «Самый маленький мотор — самому великому писателю». Он был очень тронут, что ребенок лет восьми сообразил сказать такую вещь. Он приехал до того растроганный, что мне потом позвонила Надежда Алексеевна, невестка Горького, и сказала, что просит передать Алексею Максимовичу очень большую признательность, потому что Ромен Роллан остался в большом восторге от всего того, что он видел.
Через год было его семидесятилетие (в 36-м году), и я ему послала большое поздравительное письмо. Кроме того, мы сделали такую вещь: у нас в это время гостил (приехал на три года) очень хороший американский скульптор. И мы ему заказали бюст Ромена Роллана. Этот бюст мы показали здесь ряду людей. Наш совет художников его одобрил, и мы послали ему на просмотр в Вильнюс (он в это время был случайно в Вильнюсе). И он подписал его, одобрил как очень удачный. И мы один отослали ему, а один стоял у меня долгое время в кабинете с его собственной подписью.
Затем он прислал письмо мне, в ответ на поздравление, которое было напечатано в «Правде». Этот текст письма здесь, короткий и весьма примечательный. Может, имеет смысл его прочитать. «Через полтора года вновь приеду в СССР…». Письмо Ромена Роллана, «Правда», 6 апреля 36-го года: «В ответ на телеграмму, которую дирекция Центрального парка культуры и отдыха имени Горького послала Ромену Роллану в день его семидесятилетия, великий писатель прислал письмо из Вильно на имя директора парка, товарища Б. Глан. В своем письме Ромен Роллан пишет: «Благодарю Вас от всего сердца за телеграмму, и прошу передать Вашим двум тысячам сотрудников Парка культуры и отдыха мою благодарность и лучшие пожелания. С удовольствием вспоминаю о том, как я Вас посетил этим летом. Я храню подарки детей, и, в особенности, пионерский галстук. Скажите им, что я по-прежнему причисляю себя к ним, и вместе с ними говорю: “Всегда готов”. Надеюсь Вас снова увидеть через полтора года, когда вновь приеду в СССР, и думаю, что Ваш прекрасный парк будет тогда еще более красивым, и в нем будет еще больше счастливых людей. Жму Вашу руку, дорогой товарищ, примите мои уверения в глубокой симпатии. Ромен Роллан»». К великому сожалению, как вам известно, он более не приезжал в Советский Союз.
В.Д.: Вы не помните, когда он умер? По времени? До начала войны?
Б.Г.: Я сейчас не могу точно сказать…
В.Д.: Я не помню, чтобы Ромен Роллан как-то реагировал на начавшуюся войну.
Б.Г.: Да. Там были обстоятельства, его, так сказать, расхождения. Он считал неправильным союз с Германией. Он на это реагировал чрезвычайно остро, хотя он был членом партии и прочее. Он на это реагировал с необычайной остротой, никак не соглашался и считал, что это наша ошибка, что мы ни в коей мере не можем находиться даже временно. Он был не политик, он был великий гуманист. Для него слово фашизм, когда Лиона Фейхтвангера… В самый разгар какой-то глубокой нереальной… Но это все не для стенограммы. Факт такой, что это везде осталось, обошло мировую печать. Это много раз печаталось в нашей советской печати. И осталась у него большая высокая оценка.
Что еще добавить. Маяковский любил парк. Он называл его «парком размаха и массы». Он говорил о нем очень часто самые добрые слова, приходил даже не выступать, а просто так. Он принял меня тогда с очень большой теплотой, когда я пришла к нему рассказывать об инсценировке, которую мы задумали, и очень увлеченно говорил о желании принять в ней участие. Я не сомневаюсь, если бы не трагические обстоятельства, то мы бы, наверно, неоднократно имели дело с ним как с драматургом больших и интересных дел. Еще могу сказать относительно Алексея Толстого, который чрезвычайно высоко ценил парк.
В.Д.: А из иностранцев кроме вот этих трех кто-нибудь был?
Б.Г.: Да, много было, у нас в этой книге есть очень много записей: и послов, и журналистов, и прочее, и прочее. Я просто не могу всех перечислять, потому что у нас бывали буквально ежегодно сотни иностранцев, которые очень высокую оценку давали и очень многое у нас заимствовали.
Демьян Бедный называл наш парк «отличный красностоличный». Борис Михайлович Филиппов, многолетний директор ЦДЛ, как вы знаете, к шестидесятилетию парка написал огромную статью в «Советской культуре» почти на целую полосу последнюю, которая так и называлась: «Парк отличный красностоличный». Это было взято из слов Демьяна Бедного. Демьян Бедный принимал участие в этом празднике поэзии и литературы 34-го года. И, кстати, он запросто со своею женой, актрисой Малого театра, неоднократно у нас бывал и выступал, и очень любил парк.
Фадеев давал такие оценки. Если время разрешит, я вам потом приведу несколько его слов на этом громадном празднике, где он говорил: «Мы ищем темы, а вот какая тема: бывшая свалка, мерзостное место Москвы, превращено в город счастливых людей, в место, где находят себе такую радость, возможность художественного совершенствования и общение миллионы тружеников Москвы». Это Фадеевские были слова.
И, наконец, мне бы хотелось закончить нашим дорогим для нас очень именем, именем Алексея Максимовича Горького. Именем Горького парк назвали в 33-м году, в связи с шестидесятипятилетием Горького. Он и раньше бывал, как я вам говорила, в парке. К сожалению, через несколько лет его не стало, в 36-м году он умер, и это у нас очень горестно отмечалось. Он очень любил парк, и всегда, я бы сказала, как-то гордился тем, что о нем было много добрых отзывов. Я вам уже сказала, что Герберт Уэллс когда-то такой отзыв дал заграницей, причем он мне сказал, что об этом надо написать, потому что его мнение очень важно. Ромен Роллан мне лично говорил о своем впечатлении.
Он несколько раз со мной имел беседы, Алексей Максимович, и все время говорил: «Как вы сами-то это понимаете?» Говорю: «Я понимаю это так, что это все-таки что-то весьма социалистическое, что отличает наш парк от любого луна-парка, от любого Кони-Айленда». О котором, как вы знаете, он писал когда-то как о страшном, так сказать, развлечении, оглупляющем и так далее. И конечно, естественно, что противопоставляя Кони-Айленду наш парк, в котором огромное внимание уделялось духовному совершенствованию людей, Алексей Максимович очень гордился, что именно это они и подмечают, именно этому дают высокую оценку Бернард Шоу, Уэллс, Ромен Роллан и сотни других людей. Во время съезда писателей здесь был, скажем, Андре Мальро, который был потом министром просвещения во Франции. Отто Мария Граф, я уже вам говорила, Иоганнес Бехер, Вайнер, Альберти, все они, как один, именно восприняли эту духовную сторону. Воспитание гармонической личности — основной завет Маркса, Энгельса и Ленина, который мы считали для себя своей святой задачей. Он был очень доволен и рад, когда к нему приехали, и он сказал после этого торжественного заседания, встречи читателей и писателей, Толстой и другие. Мы провели тогда интереснейшее у него совещание, о котором я писала в журнале «Театр», о Зеленом театре, о том, как можно в Зеленом театре делать прекраснейшие спектакли. Причем, это совещание прошло по его инициативе. Алексей Николаевич Толстой тоже прекрасно относился к парку и хотел сделать для него специальный спектакль. Мы вместе с Николаем Павловичем Охлопковым и Шостаковичем ездили в 37-м году к нему в Детское село. И уже был решен вопрос о том, что он из «Хлеба», из своей книги, сделает инсценировку для Зеленого театра. Шостакович должен был написать музыку, а Охлопков должен был ставить.
В.Д.: Шостакович музыку к «Хлебу» Толстого?
Б.Г.: Да. Да. Так все было задумано, потому что это же материал интереснейший, огромный материал. Из него можно было, в этих условиях, создать просто колоссальное полотно. И мы верили в то, что Охлопков может это сделать. Именно Охлопков за это брался. К сожалению, я вам не могу ничего доказать, потому что эта постановка не состоялась. А я лично глубоко верю, что он, конечно, это сделал бы.
В.Д.: «Хлеб»-то — книга слабая.
Б.Г.: Видите, были такие мысли и идеи, которые можно развить соответствующим образом. Сейчас, не входя в оценку его с точки зрения прозаической, там достаточно много было заложено интереснейших идей, и мыслей, и возможностей, проблем, которые надо более широко поставить. Сейчас не об этом речь.
И последние мысли о Горьком, что мне он однажды сам рассказал. Он несколько раз повторял: «Как важно совершенствовать парк». Кстати, скажу: не подумайте, что я не понимала, или не знала, или теперь не понимаю того огромного количества недочетов, которые у нас были. Это было неминуемо, мы росли, мы учились. Везде очень часто повторяется: «Первый зимний парк, первый Зеленый театр, первый Остров танцев, первая, скажем, особая станция, первый спектакль, первый карнавал», то есть мы без конца что-то новое придумывали, делали и сами создавали. Естественно, что на пути создания этого могли быть какие-то и огрехи, и ошибки, и так далее. Но, в конечном счете, все-таки результат получался, как правило, положительный. Так вот неоднократно Алексей Максимович говорил, какое имеет громадное значение то, что мы противопоставляем безработным миллионам там тот факт, что у нас могут отдыхать все, ибо все трудятся. И что это — колоссальная проблема. Он даже именно с этим рекомендовал мне выступать на конгрессе, который должен был быть в 34-м году, и он состоялся — «Конгресс по мировым развлечениям» в Америке. И когда мы с ним советовались в Форосе на его даче, о чем в основном говорить там, после получения приглашения, то основная идея была, которую мы должны подчеркнуть, что мы потому имеем право говорить об отдыхе для миллионов, ибо у нас все трудятся. И поэтому, естественно, мы должны говорить о восстановительном отдыхе. Тогда как там миллионы людей мечтают только о труде, поэтому меньше всего их волнует проблема отдыха.
Так вот, однажды, в одном из разговоров Алексей Максимович мне сказал: «Знаете, у нас на днях были колхозники, которые приезжали в Москву в гости. Они побывали в вашем парке и сказали, что очень хорошо, что парк этот носит ваше имя, Алексей Максимович, это что рай на земле. Мы так думаем, таким должен рай и выглядеть. А через два дня были мои внучки, они походили по всему парку, многое посмотрели, пришли страшно довольные и сказали: “Деда, очень хорошо в твоем парке!” Вот, коли старые говорят хорошо, и малые говорят хорошо, значит это, наверное, действительно хорошо». Вот это Горький…
В.Д.: Это были Даша и…
Б.Г.: Да, Даша и Маша. Я думаю, что эти многие добрые отзывы, в том числе любовь людей к парку, объяснялась именно теми концентрированными, общими усилиями и руководства, и всей интеллигенции художественной, которая необычайно отзывчиво откликалась на все наши предложения. Я не знаю случая, чтобы мы обратились к любому народному артисту, к любому художнику… Понадобились скульптуры, я поехала к Манизеру и попросила, и он сделал специально для нас скульптуру. Его жена сделала скульптуру Улановой, которая по сию пору стоит в парке. Мы обращались к крупнейшим деятелям, и я не помню случая, чтоб кто-нибудь когда-нибудь отказался от того. Настолько для них было понятно, какова аудитория, каков отзвук, хотя тогда еще не было телевидения, и только-только начинало развиваться радио, тем не менее, отзвук был чрезвычайно велик. С удовлетворением можно сказать, парк, действительно, детище первых пятилеток, которое сейчас уже имеет последствия по всей стране (где лучше, где хуже). Я должна сказать, что во многих городах имеются прекрасные парки. Есть такой город как Таганрог, там, может быть, не такой уж большой, но замечательный парк, и с точки зрения зеленого его устройства, и так далее.
Я, кстати, не говорила о том, что у нас было колоссальное количество цветов. Мы выращивали до двух миллионов цветов в течение сезона, громадное количество цветущего кустарника.
В.Д.: Делали портреты из цветов.
Б.Г.: Делали портреты, вы совершенно правы. Такой знаменитый художник Бежани, грузинский художник, делал из цветов громадные портреты Горького, Ленина.


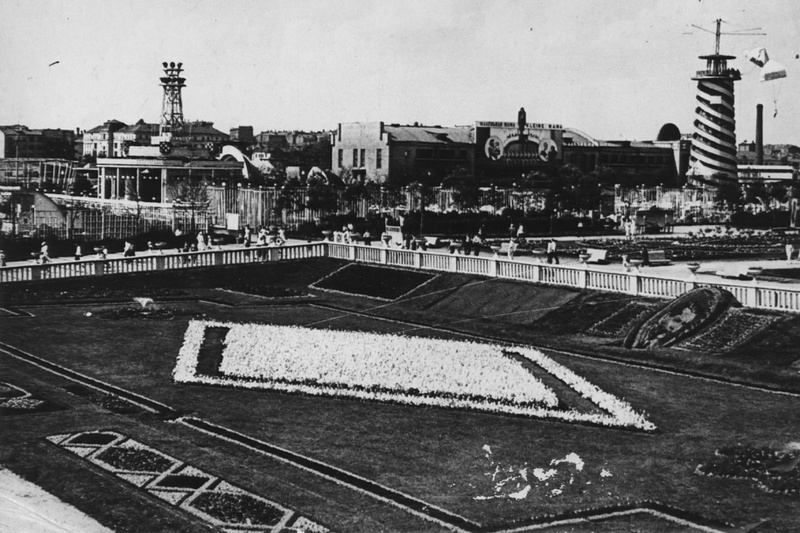
Б.Г.: Мы делали массу таких тематических вещей, мы делали лозунги поэтические. «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо» было сделано из наших цветов в парке. Мы высаживали такое количество цветов, что Алексей Максимович… Затем Емельян Ярославцев, который страшно любил цветы, и очень многие другие… Леонов, который имел свои оранжереи, всегда у нас выпрашивал белую сирень и так далее. Все приезжали к нам смотреть, потому что, действительно, у нас были редчайшие экземпляры. У нас были свои оранжереи, и мы считали, что это имеет большое значение, потому что бывали случаи, когда люди специально приезжали смотреть на новые азалии, новые рододендроны, которые откуда-то добывались, редкостные породы цветов, которых в других местах и не было. Вопросам садово-паркового искусства… Каждый настоящий парк должен быть, согласно всем канонам со времен древних и по историю наших российских парков (достаточно вспомнить такие парки как Петергоф, как Павловск, как наш Нескучный и многие другие), произведением садово-паркового искусства. К этому мы всячески стремились. Думаю, что к этому должны стремиться и другие парки. Вот и все.
В.Д.: Когда началась война, вас уже не было в парке?
Б.Г.: Нет. С войной вообще почти прекратилась деятельность парка. Там была только оборонная трофейная выставка.

В.Д.: Это в 43-м году?
Б.Г.: Да, там была трофейная выставка. Она была на протяжении ряда лет. В парк попало несколько бомб, в частности, я вам говорила, в кинотеатр и в другие… И уже во время войны велась работа, но агитационно-пропагандистская частично, сводки передавались, беседы некоторые проводились, но такой широкой работы, насколько мне известно, там не было. Меня не было в это время в Москве. Я была первое время, а потом я работала в Сибири во время войны. После 46-го – 47-го года уже начала возобновляться работа парка, она пошла довольно широко. В 48-м году там были уже очень крупные интересные вещи… В 48-м, по-моему, отмечалось восьмисотлетие Москвы. Это тоже очень широко отмечалось.
В.Д.: По поводу цветов, это очень запомнилось… Действительно, много было цветов, и конечно, был портрет Сталина из цветов. Но любопытно, что он… У выхода было два больших портрета: Сталина и Кагановича. Каганович, как известно, первое время носил усы. И эти усы были…
Б.Г.: Там были портреты Сталина и Ленина, а не Кагановича. Вы ошибаетесь.

В.Д.: Нет, Сталина и Кагановича, я не ошибаюсь.
Б.Г.: Нет, Кагановича портрета не было.
В.Д.: И эти усы…
Б.Г.: Портрет его был, но не из цветов! Из цветов был только портрет Ленина, Сталина и Горького. В этом я вам ручаюсь.
В.Д.: Ленин и Горький в другом месте, а это на выходе.
Б.Г.: Нет, не в другом, а именно на выходе были портреты Ленина и Сталина. Верьте мне, что портрета Кагановича из цветов никогда не было. Был большой его портрет как первого секретаря Московского комитета на середине.
В.Д.: Почему это так запомнилось. По этому поводу в Москве было, так сказать, смеху. Несколько дней выщипывали усы (он побрился), и сделали другой… Ну и по этому поводу…
Б.Г.: Это на нарисованном портрете можно было делать, на цветочном портрете это абсолютно невозможно было сделать. Я уже не говорю о том, что подступа к этим портретам, кроме Бежани, кроме него и его непосредственных помощников, никто не имел! Были специальные подставки, на которых можно было подойти, специальные ящики, в которых рассада была! Это должно было быть исключительное умение, чтоб там хоть что-нибудь сделать. Так что вам немножко изменила память. Это могло быть на рисованном портрете, там могли что-нибудь подрисовать или что-нибудь снять. А это я совершенно точно знаю и помню, что там были только портреты Сталина, Ленина и Горького.
В. Д.: Скажите, пожалуйста, вы с Борисом Малкиным были знакомы?
Б. Г.: Мы уже с вами говорили об этом, мы его вспоминали в прошлый раз. Я просто его знала. Очень милый, очень приятный человек, очень интеллигентный и очень общительный, который чрезвычайно любил парк и много нам делами помогал.
В. Д.: Он вам помогал?
Б. Г.: Помогал, выставки, я тут напоминала… У нас ежегодно бывали колоссальные книжные выставки-базары. Огромные!
В. Д.: Да. Но я в претензии (шучу, конечно), что вы не упомянули Культбазу, что вы там делали. Вы ни разу к нам не заглянули тогда. Ни разу!
Б. Г.: Этому я не верю, потому что не было ни одного учреждения в парке, на его территории, которую мы ежедневно всем составом руководителей обходили (кроме особых дней, когда меня куда-нибудь вызывали на весь день), весь руководящий состав вместе со мной обходил все территории и смотрел все. Каждому было сказано и показано, если мы отмечали, что не в порядке, все записывалось и говорилось, что должно быть изменено, и на следующий день мы проверяли.
А уж на Культбазе в первые года два я вообще бывала чрезвычайно много. Потому что это было мое основное место, моя епархия. У нас был крохотный домик, в котором помещалась вся дирекция, если вы это помните. Это был не тот дом, в котором сейчас дирекция. Это был крохотный деревянный домик, двухэтажный, в котором, кстати говоря, помещалось одно совершенно замечательное наше учреждение, а я о нем ничего не сказала. Это была архитектурная мастерская, которой руководил Лисицкий — знаменитый архитектор, до Власова. Там бывал Мельников, из которой вышли крупнейшие архитекторы: Залесская, которая была профессором Архитектурного института, Коржев (отец Гелия Коржева, известного художника), очень крупный специалист по зеленому хозяйству, и многие другие. Это была архитектурная мастерская, которая занималась вопросами строительства. А таких мастерских, отдельных, по отдельным поэтам там, конечно, было много, не может быть, чтоб мы в них не заглядывали. Мы давали простор всем творческим инициативам.
В. Д.: Я думал, что вы не заглядывали, потому что вы не упомянули ни разу нашу… Дело в том, что в 35-м году, как вы помните, были опубликованы слова Сталина о Маяковском. Бонч-Бруевич, который до этого мрачно расправлялся с нами, решил, что теперь мы употребим это во зло. Мы во зло не употребили, а выставка… Потому что выставка Маяковского, открытая в 31-м году, была закрыта Бонч-Бруевичем, когда два литературных музея объединились. Тогда он перепугался очень, но мы ему неприятности не делали. В результате мы на лето 1936 года получили, по договоренности, очевидно с вами или с вашими подчиненными, помещение этой Культбазы.
Б. Г.: Моим заместителем был Юрий Борисович Гольдберг, который занимался этим. Начальником отдела тогда был Головкин или Ковшаров, я не помню.
В. Д.: Это я не знаю. Мы там проработали четыре месяца.
Б. Г.: Ведь там была выставка?
В. Д.: Там была выставка и турбаза огромная, так что…
Б. Г.: Всю занять вам было сложно. Там же и библиотека была.
В. Д.: Нет, то есть она была, может, в другой части. Культбаза, входишь, там была…
Б. Г.: Большое помещение такое было.
В. Д.: Левое огромное помещение. Оба этажа мы там занимали, и там работала Бригада Маяковского самодеятельная. Там каждый день были чтения, и очень это было интересно. И в частности, был в трехметровый рост портрет Маяковского.
Б. Г.: Ну да, очень хорошо помню. Хорошо помню оформление, там была выставка, там были Окна РОСТА и всякие прочие вещи.
В. Д.: Как раз Окна РОСТА…
Б. Г.: Нет, были у нас, если не в то время, так в другое! Окна РОСТА были у нас на территории.
В. Д.: Это другое дело, это уже было не… Дело это было как раз летом 36-го года и отложилось из-за смерти Горького. Пришлось отложить на две недели. 18 июня он умер. Вот почему я подумал об этом, почему же я не помню этого карнавала? Значит, что эти карнавалы были непосредственно до…
Б. Г.: Нет. Карнавал 36-го года был 11 июля.
В. Д.: Мы, кажется, в июле тоже, уже после этого, наверное, открылись.
Б. Г.: К Культбазе это не имело отношения, потому что карнавал, в основном, проходил по всей громадной территории.
В. Д.: Мы же там дневали и ночевали. Я должен был всю эту стотысячную массу видеть.
Б. Г.: Дорогой Виктор Дмитриевич, отнесите это, к сожалению, за счет вашей памяти, потому что стотысячную массу вы могли видеть в парке ежедневно. Тогда в парке не менее ста тысяч бывало вообще в день. Слона-то не приметил. Не видеть карнавала 36-го года, о котором была колоссальная литература….
В. Д.: Литературу мы могли потом читать, но мы сидели день и ночь, запаривались, готовились.
Б. Г.: Значит, вы не успели приготовить к этому… Отложили, потому что в период непосредственно перед карнавалом и в карнавал вряд ли мы кому-нибудь могли дозволять заниматься чем-нибудь другим. Слишком много было здесь занятий. А было это у нас.
В. Д.: А как же мог карнавал быть одновременно с траурными днями?
Б. Г.: Так никто же не объявлял, понимаете, сорока дней траура, что вы! Он умер 18 июня. После этого прошло три недели. Это не то было учреждение, которое могло находиться три недели в трауре. Отметили большим очень митингом. В Большом театре (помню, как теперь) была Екатерина Пешкова, были очень многие другие, была Надежда Алексеевна, его невестка. И масса была людей, и масса была писателей. Это был громаднейший вечер памяти. Через несколько дней после этого я участвовала в его похоронах, мы шли рядом с Фадеевым всю дорогу до самой…
В. Д.: До Красной площади?
Б. Г.: Нет, нет, нет…
В. Д.: Его замуровали или…
Б. Г.: Потом. Мы его провожали, хорошо помню, мы шли по Калужской улице…
В. Д.: Ах, на кремацию?
Б. Г.: Конечно. Прекрасно помню, мы проходили мимо парка как раз и говорили о том, как он в нем бывал, как любил. Всю дорогу я шла рядом с Александром Александровичем Фадеевым, и много было у нас таких разговоров. Он шел рядом со мной, еще были другие. Шли мы, конечно, в крематорий. Потом уже его перенесли…
В. Д.: Не потом, а тут же, через…
Б. Г.: Там уже я не была. Мы ходили тогда, когда мы его непосредственно, понимаете… Похороны из Дома писателей, где он был.
В. Д.: Бетти Николаевна, большое вам спасибо. Все это очень интересно.
Б. Г.: Не знаю, когда-нибудь кому-нибудь понадобится ли это, вздумает ли кто-нибудь когда-нибудь слушать.
В. Д.: Мы это делаем впрок, как это вам объясняли. Кому-то когда-то все это понадобится. Безусловно.
Б. Г.: Вероятно, да. Я думаю, что в любом случае для истории развития массовой культуры и массового искусства, массовых форм театрального искусства, массовых форм воспитания, когда вся масса такого эстетического, идейно-художественного…
В. Д.: Затем у вас, конечно, есть в памяти огромная галерея портретов.
Б. Г.: Конечно. То, что я вам сегодня рассказала, это какая-нибудь двадцатая доля того, что вообще всерьез о парке можно говорить. Но я думаю, что это надо уже писать в книгах.
В. Д.: Это надо уже писать книгу. Вы могли бы дать очень много интересных портретов, но это уже особое дело. В следующем году, который начинается скоро, поскольку вы деятельный человек, будете много-много заняты, но все-таки…
Б. Г.: Безусловно. Первые три месяца очень тяжелые, потому что подготовка к съезду, большому семинару всесоюзному… Вот только что провели громадные… Вы уже выключили, надеюсь?
В. Д.: Да. У нас есть конверт с карточками, в которых те, с кем мы уже работали, но к которым следовало бы вернуться еще.
Б. Г.: Будет видно. Я вам на прощание зачитаю очень смешную запись композитора Копосова, напечатанную в книге: «С Захаровым я виделся тогда редко, но знал, что парк принял хор в самую тяжелую годину его жизни. Хор существовал на положении коллектива. Кто знает, что с ним было бы, если б дирекция Центрального парка культуры и отдыха во главе с Б. Н. Глан, на договорных началах, не приютила у себя беспризорных народных певцов». Видите, как он пишет. Причем, это воспоминание было в журнале «Советская музыка». «Помню, осенью 35-го года все собрались на Большом Божениновском переулке, в одноэтажном деревянном доме, где жил и умер Пятницкий». Митрофан… как он?
В. Д.: Какой же это дом?! Рядом со мной совсем!
Б. Г.: Да, одноэтажный деревянный дом. «Был устроен банкет по случаю годовщины работы хора в Центральном парке культуры и отдыха. Радовались и веселились все на славу. К тому была причина: народный хор существовал, он выжил, он работал, несмотря на все “старания” незадачливых критиков его уничтожить». Это был такой поход против фольклорных коллективов, знаете, все новое, все современное, всякие пролеткультовские штуки: «Долой старое-старое пение» и так далее. «За большим празднично убранным столом моей дамой случайно оказалась Бетти Николаевна Глан». Тут следует фраза, о которой мы все говорили: «Боже мой, как пропустила цензура?» «В ту пору молодая, необыкновенно красивая изящная женщина». Мы хохотали, что как пропустила цензура, и уже в журнале «Советская музыка» было написано: «В ту пору очень умная, изящная и такая…» (смеются) Уже не было напечатано «красивая», потому что как можно у нас писать, что там была красивая. А он пишет просто: «В ту пору молодая, необыкновенно красивая». «Я стушевался. Не знал, сумею ли за столом быть достаточно вежливым кавалером. Зато глаза мои широко открылись от удивления, когда после ужина обычно сдержанный на вид и суховатый Захаров пригласил Бетти Николаевну на вальс, а потом ударил с ней трепака. Плясал он лихо, тем же отвечала ему дама, что вызвало во мне чувство зависти, а у всех присутствующих искреннее восхищение». Вот такая симпатичная очень неофициальная запись.
В. Д.: Хорошая концовка.
Б. Г.: Да, очень приятная. Она в книге напечатана. Из книги «Воспоминания о Захарове», статья композитора Копосова, страница девяносто восемь-девяносто девять, издательство «Музыка», 67-й год. Там же есть несколько слов очень крупного критика, который пишет весьма сдержанно, что там была весьма умный и разумный директор и худрук, поняла какое значение имеет хор, взяла его на… Но тот человек серьезный, он таких легкомысленных…
В. Д.: Большое вам спасибо.